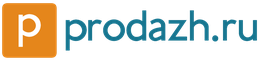Новый завет. Большая христианская библиотека 1 послание петра
Каждый человек, начиная писать письмо или послание, или поднимаясь на кафедру для чтения проповеди, имеет перед собой определенную цель – он хочет оказать воздействие на умы, сердца и жизни тех, кому адресовано его благовествование. И здесь, уже в самом начале, Иоанн указывает на цель своего послания.
1. Он хочет установить братские отношения между людьми и дружеские отношения людей с Богом (1,3). Цель пастыря всегда должна состоять в том, чтобы сблизить людей между собой и с Богом. Свидетельства, вызывающие разделение и разногласия между людьми – это ложные свидетельства. Христианское свидетельство имеет, в общих чертах, две великие Цели: любовь к человеку и любовь к Богу.
2. Он хочет принести своим людям радость (1,4). Радость – главная и важнейшая черта христианства.
Свидетельство, которое подавляет и обескураживает слушателей, не может выполнить своей функции. Правда, учитель и проповедник часто должны вызывать в человеке благочестивое сожаление, которое должно привести к истинному раскаянию. Но, после того, как людям указано на смысл греха, их должно привести к Спасителю, в Котором прощены все грехи. Конечная цель христианского свидетельствования – радость.
3. Для этого он должен представить им Иисуса Христа. Один крупный профессор говорил своим студентам, что цель их, как проповедников, заключается в том, чтобы "сказать доброе слово об Иисусе Христе". А о другом выдающемся христианине говорили, что, с чего бы он ни начинал свой разговор, он непременно обращал его к Иисусу Христу.
Дело просто в том, что, для того, чтобы вступить в братские отношения между собой и с Богом и обрести радость, люди должны знать Иисуса Христа.
ПРАВО ПАСТЫРЯ ГОВОРИТЬ (1 Иоан. 1,1-4 (продолжение))
Здесь, в самом начале своего послания, Иоанн обосновывает свое право говорить, и это сводится к одному – он лично знал Иисуса и общался с Ним (1,2.3).
1. Он слышал Христа. Когда-то очень давно Седекия сказал Иеремии: "Нет ли слова от Господа?" (Иер. 37,17). Людей, в действительности, интересуют не чье-либо мнение или догадки, а слово от Бога. Об одном выдающемся проповеднике говорили, что он сперва прислушивался к тому, что скажет Бог, а потом сам говорил к людям; о другом проповеднике тоже говорили, что во время проповеди он часто замолкал, как бы прислушиваясь к чьему-то голосу. Настоящий учитель – это человек, у которого есть слово от Иисуса Христа, потому что он слышал Его голос.
2. Он видел Христа. Рассказывают, что однажды кто-то сказал крупному шотландскому проповеднику Александру Уайту: "Сегодня вы проповедовали так, как будто пришли прямо от присутствия Христова". Уайт ответил на это: "Может быть, я действительно пришел оттуда". Мы не можем видеть Христа во плоти, как Его видел Иоанн, но мы все же можем видеть Его через веру.
3. Он рассматривал Его. Каково же различие между видеть и рассматривать? В греческом тексте для видеть употреблено слово хоран, имеющее значение физического видения; рассматривать в греческом тексте употреблено слово феасфай, имеющее значение пристально вглядываться в кого-то или во что-то, до тех пор, пока не поймешь человека или предмет. Так, обращаясь к толпе, Иисус спросил: "Что смотреть (феосфай) ходили вы в пустыню?" (Лук, 7,24), и этим словом Он подчеркивает, как люди валили толпами, чтобы рассматривать Иоанна Крестителя и разгадать, кем бы он мог быть. Говоря об Иисусе в прологе к своему Евангелию, Иоанн говорит: "Мы видели славу Его" (Иоан. 1,14). И здесь Иоанн употребил слово феосфай, в смысле, что это был не беглый, а пристальный, ищущий взгляд, пытающийся открыть хоть часть тайны Христовой.
4. Он осязал Христа своими руками. У Луки есть рассказ о том, как Иисус вернулся к Своим ученикам после Воскресения и сказал: "Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это – Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня" (Лук. 24, 39). Здесь Иоанн имеет в виду тех самых докетистов, которые были настолько одержимы идеей противопоставления духовного и материального, что утверждали, будто Иисус не был из плоти и крови, что Его человечество, якобы, было лишь иллюзией. Они отказывались верить в это, так как понимали, что Бог осквернит Себя, приняв на Себя плоть и кровь. Иоанн же утверждает здесь, что Иисус, Которого он знал, был подлинно человеком среди людей; Иоанн понимал, что нет ничего опаснее, чем подвергать сомнению человеческую природу Иисуса.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАСТЫРЯ (1 Иоан. 1,1-4 (продолжение))
Иоанн свидетельствует об Иисусе Христе следующее. Во-первых, он говорит, что Иисус был от начала. Другими словами, в Иисусе вечность вторглась во время; в Нем вечный Бог лично вторгся в мир людей. Во-вторых, это вторжение в мир людей было реальным вторжением, Бог действительно воплотился в человека. В-третьих, через этот поступок к людям пришло слово жизни, то слово, которое может обратить смерть в жизнь, а простое существование в настоящую жизнь. В Новом Завете благая весть снова и снова называется словом, и крайне интересно посмотреть, в каких разных сочетаниях оно употребляется.
1. Чаще всего его называют слово Божие (Деян 4,31; 6,2.7; 11,1; 13,5.7.44; 16,32; Фил. 1,14; 1 Фес. 2,13; Евр. 13,7; Отк. 1,2.9; 6,9; 20,4). Это не человеческое открытие, оно идет от Бога. Это свидетельство Божие, которое человек не смог бы открыть сам.
2. Часто благую весть называют словом Господним (Деян. 8,25; 12,24; 13,49; 15,35; 1 Фес. 1,8; 2 Фес. 3,1). Не всегда ясно, Кого называют авторы Господом – Бога или Иисуса, но чаще всего это Иисус.
Евангелие – благая весть, которую Бог мог послать людям только через Своего Сына.
3. Дважды благую весть называют словом слышанным (логос акоес) (1 Фес. 2,13; Евр. 4,2). Другими словами, оно зависит от двух моментов: от голоса, готового сказать его, и уха, готового слышать его.
4. Свидетельство благой вести – это слово о Царствии (Мат. 13,19). В нем Бог провозглашается Царем, а люди призываются оказывать Богу повиновение, что позволит им стать гражданами Его Царствия.
5. Благая весть – слово Евангелия (Деян. 15, 7; Кол. 1, 5). Евангелие – это значит благая весть; и Евангелие есть, в сути, благая весть людям о Боге.
6. Свидетельство благой вести – это слово благодати (Деян. 14,3; 20,32). Это – благая весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божией к человеку; это весть о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи – заслужить любовь Божию: она дается ему свободно, даром.
7. Свидетельство благой вести – это слово спасения (Деян. 13,26). Это – предложение простить грехи прошлые и дать силу преодолеть грехи будущего.
8. Евангелие – слово примирения (2 Кор. 5,19). Это свидетельство восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе, Который разрушил созданный грехом барьер между человеком и Богом.
9. Евангелие – слово о Кресте (1 Кор. 1,18). Сутью благой вести является Крест, на котором людям дано последнее доказательство прощающей, жертвующей, ищущей любви Божией.
10. Евангелие – слово истины (2 Кор. 6, 7; Еф. 1,13; Кол. 1,5; 2 Тим. 2,15). После получения благой вести не нужно больше гадать и искать во тьме на ощупь, потому что Иисус Христос принес нам истину о Боге.
11. Евангелие – слово правды (Евр. 5,13). Евангелие дает человеку силу разорвать силу зла и порока и подняться до правды и праведности, радующей взор Бога.
12. Евангелие – здравое учение [у Баркли: здравое слово] (2 Тим. 1,13; 2,8). Оно – противоядие, исцеляющее от яда греха и панацея от болезней порока.
13. Евангелие – слово жизни (Фил. 2,16). Силою Евангелия человек избавлен от смерти и получит возможность вступить в лучшую жизнь.
БОГ – ЭТО СВЕТ (1 Иоан. 1,5)
Характер Бога, которому человек поклоняется, определяет его характер, и потому Иоанн с самого начала говорит о натуре Бога и Отца Иисуса Христа, Которому поклоняются христиане. "Бог, – говорит Иоанн, – есть свет, и нет в Нем никакой тьмы". Что говорит это нам о Боге?
1. Это говорит нам, что Бог – это сияние и слава. Нет ничего величественного, чем вспышка огня, пронизывающая тьму. Сказать, что Бог есть свет – значит говорить о Его абсолютном великолепии и славе.
2. Это говорит нам о самораскрытии Бога. Для света характерно распространяться и освещать тьму вокруг себя. Сказать, что Бог есть свет, значит, сказать, что в Нем нет ничего скрытного и тайного. Он хочет, чтобы люди видели Его и знали Его.
3. Это говорит нам о непорочности и святости Бога. В Боге нет никакой тьмы, скрывающей зло и порок. Сказать, что Бог есть свет, значит, говорить о Его кристальной чистоте и незапятнанной святости.
4. Это говорит нам о том, что Бог направляет нас. Одно из главных назначений света – указывать путь. Освещенная дорога – ясная дорога. Сказать, что Бог есть свет, значит, сказать, что Он направляет стопы людей.
5. Это говорит нам о том, что в присутствии Бога все становится видимым. Свет открывает и проявляет все. Изъяны и пятна, невидимые в тени, становятся очевидными на свету. Свет вскрывает недостатки и несовершенство в каждом изделии или материале. И потому в присутствии Бога видны несовершенства жизни.
До тех пор, пока мы не взглянем на свою жизнь в свете Божием, мы не узнаем, до каких глубин она опустилась, или до каких высот поднялась.
ВРАЖДЕБНАЯ ТЬМА (1 Иоан. 1,5 (продолжение))
Иоанн говорит, что в Боге нет никакой тьмы. Во всем Новом Завете тьма противопоставляется христианской жизни.
1. Тьма символизирует жизнь без Христа, которую человек вел до того, как встретил Христа, или жизнь, которую он ведет, когда уходит от Него, сбившись с пути истинного. Теперь, с приходом Иисуса, пишет Иоанн своим адресатам, тьма прошла и уже светит истинный свет (1 Иоан. 2,8). Павел пишет своим христианским друзьям, что некогда они были тьмой, а теперь они – свет в Господе (Еф. 5,8). Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына Своего (Кол. 1,13). Христиане не находятся во тьме, ибо они – сыны света и сыны дня (1 Фес. 5,4.5). Кто последует за Христом, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Иоан. 8.12), Бог призвал христиан из тьмы в чудный Свой ( 1 Пет. 2,9).
2. Тьма враждебна свету. В прологе к своему Евангелию Иоанн пишет, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Иоан. 1,5). Это можно понять так, что тьма пытается уничтожить свет, но не в силах победить его. Тьма и свет – прирожденные враги.
3. Тьма символизирует невежество жизни, не ведающей Христа. Иисус призывает Своих слушателей ходить, пока есть свет, чтобы не объяла их тьма, потому что ходящий во тьме не знает, куда идет (Иоан. 12,35). Иисус есть свет и Он пришел в мир, чтобы верующие в Него не ходили во тьме (Иоан. 12,46). Тьма символизирует пустоту жизни, в которой нет Христа.
4. Тьма символизирует хаос жизни, в которой нет Бога. Бог, говорит Павел, имея в виду первый акт творения, повелел свету воссиять из тьмы (2 Кор. 4,6). Мир без света Божьего – хаос, а у жизни тогда нет ни порядка, ни смысла.
5. Тьма символизирует безнравственность жизни, в которой нет Христа. Павел призывает своих читателей отвергнуть дела тьмы (Рим. 13,12). Люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Иоан. 3,19). Тьма символизирует безбожную жизнь, в которой люди ищут тень, потому что творимые ими дела не выдержат света.
6. Тьма в сути своей бесплодна. Павел говорит о бесплодных делах тьмы (Еф. 5,11). Если лишить растения света, рост их остановится. Тьма – это безбожная атмосфера, в которой не может взрасти плод Духа.
7. Тьма символизирует отсутствие любви и присутствие ненависти. Кто ненавидит брата своего, тот ходит во тьме (1 Иоан. 2,9-11). Любовь – это сияние солнца, а ненависть – тьма. Тьма – это убежище врагов Христа и конечная цель тех, кто не хочет принять Его. Христиане и Христос ведут борьбу против властей и мироправителей тьмы века сего (Еф. 6,12). Упрямым и мятежным грешникам уготован мрак (2 Пет. 2,9; Иуд. 13). Тьма – это жизнь, изолированная от Бога.
ХОДИТЕ ВО СВЕТЕ (1 Иоан. 1,6.7)
Этот отрывок направлен против еретического образа мышления. Среди христиан были такие, которые претендовали на особую интеллектуальность и высокое духовное развитие, хотя в их жизни этого не было видно вовсе. Они утверждали, что настолько преуспели в познании и в постижении духовного, что грех для них, будто бы, потерял всякий смысл и значение, и что законы перестали существовать. Наполеон тоже сказал однажды, что законы созданы для простых людей, а не для таких, как он. Так и эти еретики утверждали, что они уже так далеко ушли в своем духовном развитии, что, если они даже и грешат, это не имеет никакого значения. Из писаний Климента Александрийского узнаем, что были еретики, утверждавшие, что образ жизни человека вообще не имеет никакого значения. Согласно свидетельству Иринея Лионского, они считали, что подлинно духовного человека ничто не может осквернить, чтобы он ни делал.
В опровержение такой точки зрения, Иоанн утверждает следующие:
1. Для того, чтобы вступить в дружеские отношения с Богом, Который есть свет, человек должен ходить во свете, а кто ходит в нравственной и этической тьме безбожной жизни, не может вступить в эти дружеские отношения. Именно это еще задолго до того было отмечено в Ветхом Завете. Бог сказал: "Святы будьте, ибо свят Я, Господь ваш" (Лев. 19,2; ср. 20,7.26). Кто вступит в дружеские отношения с Богом обретет добродетельную жизнь, которая есть отражение Божьей добродетели. Английский богослов Додд писал: "Церковь – это общность людей, которые, веруя в кристальную добродетель Бога, берут на себя обязательство быть подобными Ему". Это вовсе не значит, что человек может вступить в дружеские отношения с Богом лишь достигнув совершенства, ведь в таком случае никто из нас не смог бы вступить с Ним в такие отношения. Но это значит, что человек проживет свою жизнь с сознанием взятого на себя обязательства, в стремлении выполнить его и в раскаянии, если не сможет его выполнить. Это значит, что человек никогда не будет считать, будто грех не имеет никакого значения; наоборот, чем ближе он к Богу, тем ужаснее для него грех.
2. У этих сбившихся с истинного пути мыслителей было ложное представление о правде. Люди, претендующие на особенно высокое духовное развитие, но продолжающие ходить во мраке, не поступают по правде. Эта же фраза употреблена в четвертом Евангелии, где говорится о тех, кто поступает по правде (Иоан. 3,21). Это значит, что для христианина истина – не только абстрактное мыслительное понятие, а нравственное обязательство. Она занимает не просто ум, а занимает всего человека. Правда – это не открытие абстрактных истин, а конкретный образ жизни; это не только мышление, а действие. Интересно отметить слова, которые употребляются в Новом Завете вместе со словом истина. В Новом Завете говорится о покорении истине (Рим. 2,8; Гал. 3,7); поступать по истине (Гал. 2,14; 3 Иоан. 4); о противлении истине (2 Тим. 3,8); об уклонении от истины (Иак. 5,19). В христианстве можно видеть комплекс умозрительных вопросов, которые нужно разрешить, а в Библии – книгу, о которой нужно собирать все больше и больше проливающей свет информацию. Но христианство нужно последовательно воплощать в жизнь, а Библии нужно повиноваться. Интеллектуальное превосходство может идти рука об руку с моральной несостоятельностью, а для христианина истина – это нечто, что сперва нужно открыть, а потом выполнять.
КРИТЕРИИ ИСТИНЫ (1 Иоан.,6. 7 (продолжение))
Иоанн видит два великих критерия истины.
1. Истина – создатель братства. Люди, которые действительно ходят во свете, испытывают братские чувства друг к другу. Это не подлинно христианская вера, если она отделяет человека от своих собратьев. Ни одна церковь не может претендовать на исключительность и в то же время быть христианской. То, что разрушает братство, не может быть истиной.
2. Того, кто действительно знает истину, кровь Христа с каждым днем все больше и больше очищает от греха. Русский перевод в этом месте правилен, но существует опасность, что его могут неправильно понять. В Библии сказано: "Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха". Это можно читать, как изложение общего принципа, но это высказывание не следует рассматривать как относящееся к жизни каждого человека, а смысл его заключается в том, что все время, день за днем, постоянно и непрерывно, кровь Иисуса Христа очищает жизнь каждого христианина.
Очищать в греческом тексте – катаризейн. Это было первоначально ритуальное слово и обозначали им все церемонии, обмывания и тому подобное, которые проходил человек, чтобы получить возможность приблизиться к богам. Но со временем оно приобрело нравственный смысл, и им стали определять добродетель, дающую человеку возможность войти в присутствие Бога. И потому Иоанн говорит следующее: "Если вы действительно знаете, что совершила жертва Христа, и действительно испытываете Его силу, то вы будете день за днем накапливать святость в своей жизни и будете все более достойными войти в присутствие Бога".
Это важная идея: жертва Христова не только искупает грехи прошлого, но и каждодневно придает человеку святость.
Истинна та религия, которая с каждым днем сближает человека с собратьями и приближает его к Богу; она дает дружбу с Богом и братство с людьми – и нельзя иметь одно без другого.
ТРОЙНАЯ ЛОЖЬ (1 Иоан. 1,6. 7 (продолжение))
В этом послании Иоанн четыре раза прямо обвиняет лжеучителей во лжи, и первое такое обвинение содержится в данном отрывке.
1. Те, которые утверждают, что общаются с Богом, Который есть свет, а сами ходят во тьме – лгут (1,6). Дальше Иоанн повторяет это в чуть измененной форме: человек, утверждающий, что знает Бога, а не соблюдает Божьих заповедей – лжец (1 Иоан. 2,4). Иоанн излагает очевидную истину: кто своими устами говорит одно, а своей жизнью иное, тот лжец. При этом Иоанн вовсе не имеет в виду того, кто прилагает большие усилия но терпит неудачу. "Человек, – говорил писатель Герберт Уэллс, – может быть очень плохим музыкантом, и все же страстно любить музыку"; и он может хорошо сознавать свои неудачи и ошибки и в то же время страстно любить Христа и путь Христов. Иоанн же имеет в виду человека, который претендует на знание, на высокий интеллектуальный и духовный уровень, а позволяет себе то, что – он хорошо это знает – запрещено. Человек, который говорит о своей любви ко Христу, а сам сознательно не повинуется Ему – лжец.
2. Кто отрицает, что Иисус есть Христос – лжец (1 Иоан. 2,22). Эта мысль проходит через весь Новый Завет. Окончательным испытанием человека является его отношение к Иисусу. Иисус спрашивает каждого: "За кого почитаешь Меня?" (Мат. 16,13). Видевший Христа не может не видеть Его величия; кто отрицает это, тот лжец.
3. Человек, который утверждает, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец (1 Иоан. 4,20). Один и тот же человек не может любить Бога и ненавидеть человека. Если в сердце человека злоба по отношению к другому человеку, это показывает, что он не любит по-настоящему Бога. Все наши провозглашения любви к Богу не имеют смысла, если в наших сердцах присутствует ненависть к человеку.
САМООБМАН ГРЕШНИКА (1 Иоан. 1,8-10)
Здесь Иоанн описывает и осуждает два других ошибочных образа мыслей.
1. Есть люди, утверждающие, что они без греха. Это может означать две вещи.
Это может быть характеристика человека, заявляющего, что он не несет ответственности за свои грехи. Всегда легко найти отговорки; свои грехи можно отнести за счет наследственности, окружающей среды, темперамента, или физического состояния. Можно утверждать, что кто-то увел нас с пути истинного, ввел нас в заблуждение. Люди так уж устроены, что стараются уйти от ответственности за свои грехи. Но может быть, что Иоанн имеет в виду человека, утверждающего, что он может грешить без всякого вреда для себя.
Иоанн настаивает на том, что, если уж человек согрешил, то неуместны какие-либо отговорки и самооправдания. Он может лишь смиренно и с покаянием исповедаться Богу, и, если нужно, людям.
И вдруг Иоанн говорит нечто поразительное: мы можем положиться на то, что Бог в Своей праведности простит нас, если мы исповедуем свои грехи. На первый взгляд кажется более логичным, что в Своей праведности Бог скорее будет готов осудить нас, нежели простить. Но дело в том, что Бог по Своей праведности никогда не нарушает Своего слова, а Священное Писание изобилует обещаниями милосердия по отношению к человеку, который приходит к Нему с покаянным сердцем. Бог обещал не отвергать кающегося сердца, и Он не нарушит Своего слова. Если мы смиренно и скорбно покаемся в своих грехах, Он простит нас. Но уже сам факт, что мы ищем отговорки и доводы в свое оправдание, лишают нас права на прощение, потому что это мешает нам покаяться, а смиренное покаяние открывает путь к прощению, потому что человек с кающимся сердцем может воспользоваться заветами Божьими.
2. Иные утверждают, что они, собственно, и не грешили. Такой подход не столь уж необычен, как это может показаться. Многие действительно убеждены в том, что не грешили и возмущаются, если их называют грешниками. Их ошибка заключается в том, что они полагают, будто грех – это скандал, о котором пишут в газетах. Они забывают, что грех – это по-гречески хамартиа, что в буквальном смысле значит не достичь цели. Быть недостаточно хорошим человеком, отцом, мужем, сыном, рабочим или недостаточно хорошей матерью, женой, дочерью – тоже грех, и это касается всех нас. Человек, утверждающий, что не грешил, утверждает одновременно, что Бог лжет, потому что Бог сказал, что все согрешили.
Таким образом, Иоанн осуждает тех, кто утверждает, будто достиг таких вершин в знании и духовной жизни, что грех не имеет для них больше никакого значения. Иоанн осуждает тех, которые пытаются избежать ответственности за свои грехи или утверждает, будто грех никак на них не влияет, а также тех, которые так и не осознали, что они грешники. Смысл христианской жизни в первую очередь заключается в том, чтобы мы осознали свой грех, а потом обратились к Богу за прощением, которое может стереть прошлые грехи, и за очищением, которое даст нам новое будущее.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите: Ctrl + Enter
Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей - не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, - отвечали сторожа, - кругом шалят…»
Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, - открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, - садиться на паперти. Ругались вполголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки.
Босой, вприскочку, бежал юродивый, - вонючий, спина голая, в голове еще с лета - репьи. На паперти так и ахнули: в руке у божьего человека - кусище сырого мяса… Опять, значит, такое скажет, - по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, - ждет, когда народу соберется больше.
Стало видно на улице. Хлопали калитки. Шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками. Без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветреными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом, - видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья, обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. Три с половиной года, - сказано, - будет мнимое царство длиться…»
В прежние года в этот час в Китай-городе - шум и крик - тесно. Из Замоскворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по ярославской дороге везут живность, дрова, по можайской дороге - купцы на тройках. Гляди сейчас, - возишка два расшпилили, торгуют тухлятиной. Лавки - половина заколочены. А в слободах и за Москвой-рекой - пустыня. На стрелецких дворах и крыши сорваны.
Начинают пустеть и храмы. Много народа стало отвращаться: православные-де попы на пироги прельстились, - заодно с теми, кто зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура-голова, вдарь громче…» Звони, не звони, народ идет мимо, не хочет креститься щепотью. Раскольники учат: «Щепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь меж ними. Известно, кто учит кукишем смахиваться».
Народу все-таки подваливало на улицах: боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людишки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут, - нюхали: тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за Неглинной шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатываясь на ухабах, спускались через Москву-реку на воронежскую дорогу. Конные драгуны, в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах, - усатые, будто не русские, - надрывались матерной руганью, замахивались плетями на возчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Наш-то в Воронеже, с немками, с немцами вконец оскоромился!» Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабатчик-целовальник. Обмерли, - никто не засмеялся, понимали, что - горе: у целовальника лицо - голое, - вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача, перекрестился на пять низеньких глав, хмуро сказал: «Заходите…»
Наискосок, на паперти, юродивый запрыгал по-собачьему, тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики, - дивиться… Счастье храму, где прибился юродивый. Но и опасно по нынешнему времени. У Старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтеся, али меня не узнали?..» Юродивого с попом и дьяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромодановскому.
Вдруг закричали: «Пади, пади!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, - ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка, - на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты.
А законную царицу Евдокию Федоровну этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь, навечно - слезы лить…
Братцы, люди хорошие, поднесите… Ей-ей, томно… Крест вчера пропил…
Ты кто ж такой?..
Иконописец, из Палехи, мы - с древности… Такие теперь дела, - разоренье…
Зовут как?
Ондрюшка…
На человеке - ни шапки, ни рубахи - дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но - вежливый - человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно…
Садись, чего уж…
Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик, с тонкой шеей, рассказывал:
Казнили стрельцов. Ладно. Это - дело царское. (Поднял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается… Но…
Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки, - стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:
То-та, что - но… Вот - то-та!..
Хитрый мужик, помахивая на него пальцем:
Мы сидим смирно… Это у вас в Москве чуть что - набат… Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать… Не о том речь, посадский… Вы, дорогие, удивляетесь, почему к Москве подвозу нет? И не ждите… Хуже будет… Сегодня - и смех и грех… Привез я соленой рыбки бочку… Для себя солил, но провоняла. Стал на базар, - еще, думаю, побьют за эту вонищу, - в час, в два все расхватали… Нет, Москва сейчас - место погиблое…
Ох, верно! - Иконописец всхлипнул.
Мужик поглядел на него и - деловито:
Указ : к масленой стрельцов со стен поснимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся? А посады на что? Обяжи конной повинностью посады.
Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:
Эх ты, пахарь… Ты бы походил зиму-то мимо стен… Метелью подхватит, начнут качаться… Довольно с нас и этого страха…
Конечно, их легче бы сразу похоронить, - сказал мужик. - В прощеное воскресенье привезли мы восемнадцать возов, не успели расшпилить - налетают солдаты: «Опоражнивай воза!» - «Как? Зачем?» - «Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку, - опрокинули, дьяволы. «Ступай, кричат, к Варварским воротам…» А у Варварских ворот навалено стрельцов сотни три… «Грузи, такой-сякой…» Не евши, не пивши, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи… Вернулись на деревню, - в глаза своим смотреть стыдно.
К столу подошел незнакомый человек. Стукнув донышком, поставил штоф.
На дураках воду возят, - сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом: - Бывайте здоровеньки. - Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.
Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:
Мужик - дурак, дурак, знаешь, - мужик понимает… (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крякнул.) Нет, дорогие мои… (Потянулся за чесночной головкой.) Утресь - видели - обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные - плати, по кабальным - плати, кормовые боярину - дай, повытошные в казну - плати, мостовые - плати, на базар выехал - плати…
Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик, пресекся, - шмыгнул.
Ладно… Теперь - лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут… Нет, дорогие мои… В деревнях посчитайте, - сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите… Ныне наготове бежать мало не все. Мужик - дурак, покуда сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть… (Взялся за бородку, поклонился.) - Мужик лапти переобул и па-ашел куда ему надо.
На север. На озера… В пустыни!.. - Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.
Мужик отстранил: «Помолчи!..» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол:
Ребята, - зашептал, - действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Матка-озеро; на Выг-озеро… Там тихо… (Дрогнув вспухшими щеками.) Только те, кто уйдет, - те и живы будут…
У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз, - стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому…
Он верно говорит… Мы в Палехе к великому посту шестьсот икон написали. По прежним годам это - мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Письмо наше светлое, титл Исуса с двомя «иже». Рука, благословляющая со щепотью. И крест пишем - крыж - четырехконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берут, - гостинодворцы Корзинкин, Дьячков, Викулин, - говорят нам «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа…» - «Как лапа?» (Иконописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами.) «А так, говорят, след его лапы… Птичий след на земле видели, - четыре черты?.. И у вас на иконах тот же…» - «Где?» - «А крыж… Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет…»
Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли… Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, поддакивал… и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:
А табак? В каких книгах читано - человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублев все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову - продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву-никоциану курили… Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь, - тьфу, будь она проклята! Похоть антихристова, - картовь! Все это зелье - из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики… Чай кто пьет - отчается… Кто кофей пьет - у того на душе ков… Да - тфу! - сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое…
Торгуешь-то чем? - спросил пегобородый.
Да какая теперь торговля… Немцы торгуют, а мы воем. Овсея Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка… Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали… Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восемьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно… Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен… А теперь не знаем, как и душу спасти…» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались… Нет стрельцов, - бери нас голыми руками… Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите…
Вот хлеб съедим, к весне все разбредемся, - сказал мужик твердо.
Братцы! - Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко. - Братцы, на севере - прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие…
В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался один, голый по пояс, без креста, молил - в долг чарочку… Одного выволокли за волосы в сени и там, надрывающе вскрикивая, били, - должно быть, за дело…
У стола остановился согнутый, едва не пополам, нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:
Откуда залетел, сокол?
Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал…
Онвад с унод? Тарабарский язык, употреблявшийся владимирскими офенями, раскольниками, иногда и разбойниками; слова говорились навыворот. - в половину голоса быстро спросил согнутый.
Ступай, - мы здесь явно…
Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский, - испугавшись:
Это - кто ж такой?
Путник на сиротской дороге, - строго сказал пегобородый.
По-каковски с тобой говорил-то?
По-птичьи.
А ведь он тебя будто признал, парень…
А ты поменьше спрашивай, умнее будешь… (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь… Мы - с Дону, по торговому делу.
Посадский живо придвинулся, заморгал:
Чего покупаешь?
Огневое зелье, - нужно бочек десять. Свинцу пудов полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное, гвозди. Деньги есть.
Сукна доброго, железа достать можно… Свинец и порох - тяжело: мимо казны нигде не взять.
То-то, что постараться - мимо казны.
Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.
Само собой…
Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается - сейчас приведет подьячего. Убежал. Мужику хотелось вмешаться в торговое дело. Наморща лоб, покашлял:
Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милок?
Ну, - скажите, пятьдесят пудов свинца… Воевать, казачки, что ли, собираетесь?
Перепелов бить…
Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и - не глядя:
Здравствуй, Иван…
Здравствуй, Овдоким, - так же, не глядя, ответил пегобородый.
Давно не видались, атаман…
Побираешься?
От немощи… Летась погулял в лесу легонько, - не те года… Надоело, - помирать надоть…
Обожди немного…
А что, - разве хорошее слышно?
Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо - углом рта:
Дон поднимаем.
Овдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки.
Не знаю, - проговорил, - слыхать - донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают…
Пришлых много, гультяев. Они начнут, казаки подсобят… А не подсобят, - все равно - либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы, навечно… Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлых велят выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют… Конец тихому Дону…
Для такого дела нужен большой человек, - сказал Овдоким, - не вышло бы, как тогда, при Степане… То есть при Степане Разине.
Человек у нас есть, не как Степан, - без ума голову свою потерял, - прямой будет вож… Весь раскол за ним встанет…
Смутил меня, Иван, прельстил, Иван, - а уж я собрался на покой…
Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане…
Едва ли, едва ли… Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй…
Запыхавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо - жаждущее, глаза - мутные, антихристовы, в ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь, из-за спины, ему на ухо:
Кузьма Егорыч, вот человек, который…
Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему - Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался - и грудь и под мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно… Уа-ха-ха-ха-а-а… - позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, - мутно и скучно.
В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, - шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтораста, кто у возка - держат коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину… Под ручки, под бочки подсаживали в возок… Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец - ждать, когда государевы светлые очи (а после - царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался…
Все минуло! Проснешься - батюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь… Вон висит на тесовой стене - где бы ничему не висеть - голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то на смех, не то в наказание. Терпи…
Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде - вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?
Мишка! - сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та… Лей на руки…
Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся, - противно такое бритое, колючее мыть… Ворча, сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.
Это еще что? - крикнул Роман Борисович.
Зубы чистить.
Не буду!
Воля ваша… Как царь-государь говорил надысь зубы чистить, - боярыня велела кажное утро подавать…
Кину в морду блюдцем… Разговорчив стал…
Воля ваша…
Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, - жмет, тесно, жестко… Зачем? Но ведено строго, - дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике… Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно - какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.
Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?
Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим…
Знаю… Не скаль зубы…
Воля ваша…
Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем…
Было отчего задуматься… Ведь так если дальше пойдет, - всем великим родам, княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты, - взялись дворянство искоренять! Искорени… При Иване Грозном пробовали так-то - разорять княженецкие фамилии… Получилась гиль, смута… И ныне будет гиль… Становой хребет государству - мы… Разори нас, - и государства нет, жить незачем… Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил…»
«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты… Пятьсот Рублев взяли на воронежский флот… В воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну, - все амбары вычистили. Пшеницы было за три года урожая, - ждал, когда цену дадут… (От резкой досады горько стало во рту.). Теперь слышно - у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну… Солонины ведено заготовить десять бочек… Ах, боже мой, солонина-то им зачем?..»
Читал. За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны…
«На масленой бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженых налетало, - в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут… Кричат козлами, петухами, птицами».
Роман Борисович переступил с ноги на ногу, - вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами… И не смешно вовсе… Жена видела, Мишка видел… «Ох, господи! Зачем? К чему это?»
Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут, - в мир-де пришел льстец. Католики и лютеране - его слуги, иноземные товары - все с печатью антихристовою. Настал-де конец света.
Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался. «Невероятно… Господь не допустит пропасть русскому дворянству. Обождать да потерпеть. Эх-хе-хе…»
Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув немалой толщины тетрадь, где было записано все касательно - кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами, или хлебом, или запасами, - медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.
В палату вошел старший приказчик Сенка, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя - в меру, по совести, и - хоть режь его - никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, сознавайся!..» Сенка, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на бога. Только, когда оставят его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет.
Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед Тобой ни в чем не виноват…
Сенка влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и стал на колени.
Ну, Сенка, что скажешь хорошего?
Все слава богу. Роман Борисович.
Сенка, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть - с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из сельца Иваньково и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правеж… Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят.
Роман Борисович удивился, приоткрыл рот, - неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублев, - избу-де новую справить, да сбрую, да лемех новый, да на семена… Коська взял тридцать семь рублев с полтиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство…
Ах, сволочи, ах, мошенники! Ты бить-то их велел батогами?
С вечера бьют, - сказал Сенька, - двое приставлены к каждому - бить без пощады… Что ж. Роман Борисович, батюшка, вам горевать: Федька с Коськой не заплатят, - против их долга у нас кабальные расписки, - возьмем обоих в кабалу лет на десять. Нам рабы нужны…
Деньги мне нужны, не рабы! - Роман Борисович бросил на стол гусиное перо. - Рабов пои-корми - царь опять в солдаты возьмет…
Деньги нужны - сделайте, как у Ивана Артемича, у Бровкина: поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно. От денег мошна лопается…
Да, слышал… Врешь ту, чай, все.
Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу, Сенка чуть не каждый день поминал про него: явно, хотел на этом деле уворовать не мало. А вот Нарышкин, Лев Кириллович (дядя государев), тот поступает вернее: деньги дает в Немецкой слободе одному голландцу, Ван-дер-Фику, и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост, и Нарышкину с тех денег на каждый год идет с десяти тысяч шестьсот рублев одного росту. «Шесть сот рублев - не пито, не едено!..»
Жили деды, забот не ведали, - проговорил Роман Борисович. - А государство крепче стояло. (Надел в рукава поданную Сенкой шубу на бараньем меху.) С государем сидели, думу думали, - вот какие были наши заботы… А тут не рад и проснуться…
Роман Борисович пошел по лестницам, - вниз и вверх, - по холодным переходам. По пути отворил забухшую дверь, - оттуда пахнуло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика, - босые, в одних рубахах, - валявшие баранью шерсть.
Ну, ну, работайте, работайте, бога не забывайте, - сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу. Девки и девчонки, душ двадцать, встав от столов и пялец, поклонились в пояс. Боярин закрутил носом.
Ну, тут у вас и дух, девки… Работайте, работайте, бога не забывайте…
Заглянул Роман Борисович и в швальню и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяли кожи руками… Сенка, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У колодца поили овец. От ворот до сеновала стояли возы с сеном. Мужики сняли шапки.
Мужички, маловаты воза-то! - крикнул Роман Борисович…
Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся по-черному, шли дымки, сбиваясь ветром, - застилали двор. Повсюду - кучи золы и навоза. Морозное тряпье хлопало на веревках. Около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, завидев на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков по заду и ляжкам…
Ой, ой, господи, за что?.. - стонали Федька и Коська…
Так, так, за дело, всыпь еще, - поддакивал с крыльца Роман Борисович.
Федька, длинный, рябой, красный мужик, - обернувшись:
Милостивец, Роман Борисович, да нет у нас… Ей-богу, хлеб до рождества съели… Скотину, что ли, возьми, - разве можно эдакую муку терпеть…
Сенка сказал Роману Борисовичу:
Скотина у него мелкая, худая, он врет… А можно взять у него девку, - в пол его долга. А остальное доработает.
Роман Борисович сморщился, отвернулся.
Подумаю. Вечор потолкуем.
За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие», - пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату - пить кофей.
Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчовая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня - в русском, темного бархата, просторном летнике, на голове - иноземный чепец. Княжны - в немецких робах со шлепами Шлейфами. : Наталья - в персиковом, Ольга - в зеленом, полосатом, старшая - Антонида - в робе цвета «незабвенный закат». У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянены, брови подведены, ладони - красные.
Прежде, конечно, и Авдотье и девкам в столовую палату и ходу не было: сидели по светлицам у окошечек за рукодельем, в летнее время - в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату: «Где дочери? Посадить за стол…» (Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур - без памяти.) Царь помял каждую - за подбородок: «Танцевать умеешь?.. (Какое там, - у девок от стыда слезы из глаз прыщут.) Научить… К масленой плясали б минувет, польский и контерданс…» Взял князя Романа за кафтан, не шутя тряхнул: «Сделать в доме политес изрядный, - запомни!..» Девчонок посадили за стол, заставили пить вино… И дивно - пьют, бесстыжие… Недолго погодя смеяться начали, будто им и не в диковину…
Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзки, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра, разодевшись, делают плезир, - пьют чай и кофей.
Роман Борисович вошел в палату. Покосился на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась:
Здравствуй, батюшка…
Антонида зашипела на мать:
Сядьте, мутер…
Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку калганной, закусить чесночком… Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут…
Чего-то кофей не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли… Мать, поднеси крепкого.
У вас, фатер, один разговор кажное утро - водки, - сказала Антонида, - когда вы только приучитесь…
Молчи, кобылища, - закричал Роман Борисович, - ай, плетку возьму…
Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному, с поклоном, поднесла чарочку, шепнула:
Да поешь ты, батюшка, вволю…
Выпил, отдулся. Грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжичков соленых, рубленых, с лучком. Жуя пирожок маленький, - черт те с чем, - спросил про сына:
Мишка где?
Арифметику, батюшка, заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет…
Рябоватая Ольга, самая дотошная до политеса, проговорила, морща губы:
Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился…
Дитя он малое еще, - простонала Авдотья.
Молчали некоторое время, Наталья, младшая, - смешливая, вертлявая, - нагнулась к окошечку (в оконницы недавно вставили стекла вместо слюды).
Ах, ах, девы! Гости приехали…
Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки - убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом (по-прежнему - дворецкий), старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой. Роман Борисович вылез из-за стола - делать галант «гостье: трясти перед собой шляпой, лягать ногами… А перед кем ломаться-то князю Буйносову! Эту боярыню Волкову семь лет назад Санькой звали, сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец, Ивашко Бровкин, был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться. Видишь ты, - мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала! Муж у царя в милости… (Муж ее приходился князю Романову двоюродным племянником.) Отцу дьявол помог, вылез в купчины, теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.
Мажордом раскрыл дверь (по-старинному - низенькую и узкую), зашуршало розово-желтое платье. Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки, с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, - атласный башмачок с каблуком вершка в два, - присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой, страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы:
Бонжур, прынцес!
Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостью глазами. Роман Борисович взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу - откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.
Ах, ах, куафа на китовом усе, конечно.
А» нам-то прутья да тряпки подкладывают.
Санька им отвечала:
С куафер чистое наказанье: на всю Москву один. На масленой дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные - так и спали на стуле… Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.
Почтенному Ивану Артемичу поклон передайте, - сказал князь. - Как заводик его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное…
Тятенька в Воронеже. И Вася в Воронеже, при государе.
Наслышаны, наслышаны, Александра Ивановна.
Вася вчерась письмо прислал. - Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж (Роман Борисович заморгал: вот-вот сейчас женщина заголится), вытащила голубенькое письмецо. - Как бы Васю мово не послали в Париж…
Что пишет? - кашлянув, спросил князь. - Про государя что отписывает?..
Санька долго разворачивала письмецо, - лоб наморщился. Щеки, шея залились краской. Шепотом:
Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам с титлами и росчерками, стала читать, выговаривая медленно каждое слово:
«Сашенька, здравствуй, свет мой, на множество лет… У нас в Воронеже вот какие дела… Скоро флот будем опускать в Дон, и с тем наше житье здесь окончится… Пугать не стану, а стороной слышал, государь-де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее - в Париж. Не знаю, как и думать о сем: далеко, да и страшновато… Мы все, слава богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется, - поминали недавно за ужином. Он по вся дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди и скобы кует, сам и конопатит. И бороду брить недосуг: зело всех торопит, людей загонял. Но флот построили…»
Роман Борисович стучал по столу ногтями:
Да… Конечно, флот, да… Сам кует, сам конопатит… Сил, значит, девать некуда…
Санька кончила чтенье. Тихонько вытерла губы. Сложила письмецо и - за корсаж.
На святой государь вернется - в ноги ему брошусь… Хочу в Париж…
Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками: «Ах, и - ах, и - ах!» Княгиня Авдотья перекрестилась.
Напугала, матушка, страсть какая, - в Париж… Чай, там погано!
У Саньки потемнели синие глаза, прижала перстни к груди:
Так я скучаю в Москве!.. Так бы и полетела за границу… У царицы Прасковьи Федоровны живет француз - учит политесу, он и меня учит. Он рассказывает! (Коротко передохнула.) Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет, танцую лучше всех, голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу… Так стало скушно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти…
Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить возок - ехать на службу, в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда. Дворян посадили скрипеть перьями. А сам весь в дегтю, в табачище, топором тюкает, с мужиками сивуху пьет…
Ох, нехорошо, ох, скушно, - кряхтел князь Роман Борисович, влезая в возок…
У Спасских ворот, в глубоком рву, где надо льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожами. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на откосе лениво выкалывал пешней примерзший труп стрельца. День был серый. Снег - серый. По Красной площади, по навозным ухабам, брели сермяжные люди, повесив головы. Часы на башне заскрипели, захрипели (а, бывало, били звонко). Скучно стало Роману Борисовичу.
Возок проехал по ветхому мосту в Спасские ворота. В Кремле, как на базаре, люди ходят в шапках. У изгрызанной лошадьми коновязи стоят простые сани… Стеснилось сердце у Романа Борисовича. Опустело место сие, пресветлых очей нет, что вон в том окошечке царском теплились, как лампады во славу Третьего Рима. Скучно!
Роман Борисович остановился у приказного крыльца. Дикого не было, чтобы вынуть князя из возка. Вылез сам. Пошел, отдуваясь, по наружной крытой лестнице. Ступеньки захожены снегом, наплевано. Сверху, едва не толкнув князя, сбежали какие-то человечишки в нагольных полушубках. Задний - пегобородый - нагло царапнул гулящим глазом… Роман Борисович, остановись на пол-лестнице, негодующе стукнул тростью:
Шапку! Шапку ломать надо!
Но крикнул на ветер. Такие-то порядки завелись в Кремле.
В приказе, в низких палатах, - угар от печей, вонь, неметеные полы. За длинными столами, локоть к локтю, писцы царапают перьями. Разогнув спину, один скребет нечесаную башку, другой скребет под мышками. За малыми столами - премудрые крючки-подьячие, - от каждого за версту тянет постным пирогом, - листают тетради, ползают пальцами по челобитным. В грязные окошечки - мутный свет. По повыту, мимо столов, похаживает дьяк-повытчик в очках на рябом носу.
Роман Борисович важно шел по палатам, из повыта в повыт. Дела в приказе Большого дворца было много, и дела путаные: ведали царскую казну, кладовые, золотую и серебряную посуду, собирали таможенные и казацкие деньги и стрелецкую подать, ямские деньги и оброк с дворцовых сел и городов. Разбирались в этом только приказный дьяк да старые повытчики. Новоназначенные бояре сиживали целый день в небольшой, жарко натопленной палате, страдали в тесном немецком платье, глядели сквозь мутные окошечки на опустевший царский дворец, где, бывало, на постельном крыльце, на боярской площадке, хаживали они в собольих шубах, помахивали шелковыми платочками, судили-рядили о высоких делах.
Много страшных дел прошумело на этой площади. Вон с того ветхого, ныне заколоченного крыльца, по преданию, ушел с опричниками из Кремля в Александровскую слободу царь Иван Грозный, чтобы ярость и лютость обратить на великие боярские роды. Рубил головы, на сковородах жег и на колья сажал. Отбирал вотчины. Но бог не попустил вконец боярского разорения. Поднялись великие роды.
Вон из того деревянного терема с медными петухами на луковичной крыше выкинулся проклятый Гришка Отрепьев - другой разоритель преславного боярства русского. Пустыня осталась от московской земли, пожарища, кости человечьи на дорогах, но бог не попустил, - поднялись великие роды.
Ныне опять налезла проза - по грехам нашим… «Э-хе-хе», - скучливо кряхтели бояре в жаркой палате у окошечек. Видно, не мытьем хотят взять - катаньем… Бороды все обрили, служить всем велели, сынов расписали по полкам, по чужим землям… «Э-хе-хе, не попустит боги на этот раз…»
Войдя в палату, Роман Борисович увидел, что опять сегодня поднесли чего-то сверху. Старый князь Мартын Лыков тряс бабьими щеками. Думный дворянин Иван Ендогуров и стольник. Лаврентий Свиньин, запинаясь, читали грамоту. Поднимая головы, только и могли молвить, что: «Ах, ах!»
Князь Роман, сядь послушай, - едва не плача, сказал князь Мартын. - Что же буде-та? Теперь каждый и облает и обесчестит… Одна была управа, и ту отнимают.
Ендогуров и Свиньин сызнова начали читать по окладам царский указ. В нем говорилось, что ему, царю и великому князю и пр., и пр., много докучают князья и бояре, и думные, и московские дворяне челобитными о бесчестье. Такого-то дня подана ему, царю и пр., челобитная от князя Мартына, княж Григорьева, сына Лыкова, в том, что его на постельном крыльце лаяли и бесчестили, и лаял-де и бесчестил его Преображенского полку поручик Олешка Бровкин… Проходя по крыльцу, кричал ему, князю Мартыну: «Что-де смотришь на меня зверообразно , я-де тебе ныне не холоп, ты прежде был князь, а ныне ты - небылица …»
Мальчишка он, мужицкий сын, страдник, - князь Мартын тряс щеками, - тогда-то сгоряча я запамятовал, он хуже мне кричал…
А что же он тебе тогда кричал, князь Мартын? - спросил Роман Борисович.
Ну, чего, чего… Кричал, многие слышали: «Мартынушка-мартышка, плешивый…»
Ай, ай, ай, обидно, - завертел головой Роман Борисович. - А что, - не сын ли это Ивана Артемича, Олешка?
А черт его знает, - чей он сын…
- «Царь и великий князь и пр., - читали далее Ендогуров и Свиньин, - чтобы ему не докучали в такое трудное для государства время, за докуку и себе в досаду повелел на челобитчике, князе Мартыне, выправить десять Рублев и те деньги раздать нищим и ныне челобитные о бесчестье воспретить».
Окончив чтение, покрутили носами. Князь Мартын опять всполохнулся:
Небылица! Потрогай меня, - какая же я небылица? Род наш - от князя Лычко! В тринадцатом веке вышел из Угорской земли Лычко-князь с тремя тысячами копейщиков. И от Лычки - Лыковы пошли и князья Брюхатые, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына - Буйносовы…
Врешь! Истинную несешь небылицу, князь Мартын! - Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкал взором (эх, не босые бы щеки, кривоватый голый рот, - совсем бы страшен был князь Роман)… - Буйносовы от века сидели выше Лыковых. Мы род свой от стольных черниговских князей считаем поименно. А вы, Лыковы, при Иване Грозном сами в родословец себя вписали… Черт его, князя Лычко, видел, как он вышел из Угорской земли…
У князя Мартына глаза стали вращаться, запрыгали мешки под глазами, задрожало, будто плачем, лицо с большой верхней губой.
Буйносовы? Не в Тушине ли, в лагере, тушинский вор вам вотчины-то жаловал?
Оба князя поднялись с лавки, стали оглядывать друг друга от ног до головы. И быть бы лаю и шуму великому - не вступись Ендогуров и Свиньин. Усовестили, успокоили. Вытирая платками лбы и шеи, князья сели по разным лавкам.
Скуки ради думный дворянин Ендогуров рассказывал, о чем болтают бояре в государевой Думе, - руками разводят, бедные: царь со своими советчиками в Воронеже одно только и знает, - денег да денег. Подобрал советчиков, - наши да иноземные купцы, да людишки без роду-племени, да плотники, кузнецы, матросы, вьюноши такие - только что им ноздри не вырваны палачом. Царь их воровские советы слушает. В Воронеже и есть истинная Дума государева. Жалобы со всех городов от посадских и торговых людей так туда и сыплются: нашли своего владыку… И с этим сбродом хотят одолеть турецкого султана. В Москву писал один человек из посольства Прокопия Возницына, из Карловиц: турки-де над воронежским флотом смеются, дальше донского устья он не уйдет, весь сядет на мелях.
Господи, да сидеть нам смирно, зачем нам турков дражнить, - сказал смирный Лаврентий Свиньин. (Троих сыновей его взяли в полки, четвертого - в матросы. Старик скучал.)
Это - как смирно? - проговорил Роман Борисович, грозно раскрыв на него глаза. - Не должен бы ты, Лаврентий, по худости, наперед других встревать в разговор, - первое… (Ударил себя по ляжке.) Как, перед турками, перед татарами - смирно? А для чего мы князя Василия Голицына два раза в Крым посылали?
Князь Мартын, - глядя на печь:
Не у всех вотчины за Воронежем да за Рязанью.
Роман Борисович дернул на него ноздрей, но пренебрег.
В Амстердаме за польскую пшеницу по гульдену за пуд дают. А во Франции - и того дороже. В Польше паны золотом завалились. Поговори с Иваном с Артемичем Бровкиным, он расскажет, где денежки-то лежат… А я по винокурням прошлогодний хлеб Христа ради продал по три копейки с деньгой за пудик… Ведь досадно, мне - рядом: вот - Ворона-река, вот - Дон, и - морем пшеничка моя пошла… Великое дело: сподобил бы нас бог одолеть султана… А ты - смирно!.. Нам бы городишко один в море, Керчь, что ли, бы… И опять: мы, как Третий Рим, - должны мы порадеть о гробе господнем? Али мы совсем уже совесть потеряли?
Султана не одолеем, нет. Зря задираемся, - облегченно сказал князь Мартын. - А что хлеба у нас досыта - и слава тебе, господи. С голода не помрем. Только не гнаться дочерям шлепы навешивать да галант заводить дома…
Помолчав, глядя мимо раздвинутых колен на сучок в полу. Роман Борисович спросил:
Хорошо. Кто же это шлепы на дочерей навешивает?
Конечно, таких дураков, которые еще в Немецкой слободе кофей покупают по два и по три четвертака за фунт, таких никакой мужик не прокормит. - Князь Мартын, косясь на печь, трепетал дряблым подбородком, явно опять нарывался на лай…
Дверь сильно толкнули. В духоту с мороза вскочил круглолицый, с приподнятым носом, румяный офицер, в растрепанном парике и надвинутой на уши небольшой треугольной шляпе. Тяжелые сапоги - ботфорты - и зеленый кафтан с широкими красными обшлагами закиданы снегом. Скакал, видимо, во всю мочь по Москве.
Князь Мартын, увидав офицера, стал разевать - разинул рот: это его обидчик, Преображенский поручик Алексей Бровкин - из царских любимцев.
Бояре, бросайте дела… (Алеша, торопясь, держался за распахнутую дверь.) Франц Яковлевич помирает…
Тряхнул париком, нагло (как все они - безродные выкормки Петровы) сверкнул глазами и понесся - каблуками, шпорами - по гнилым полам приказной избы. Вслед ему косились плешивые повытчики: «Потише бы надо, бесстрашной, здесь не конюшня».
Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками - датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капало с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. Разгорячаясь все более, поднимал кубок из кокосового ореха и пил за братский союз царя Петра с королем датским и курфюрстом бранденбургским. Перед окнами двенадцать пушек на ярко-зеленых лафетах враз (когда мажордом у окна взмахивал платком) ударяли громовым салютом. Клубы белого порохового дыма застилали солнечное небо.
Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки парика прилипали к побледневшим щекам:
Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам… Рыбою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи верст. А дикое поле - южные степи, где в траве скрывается всадник! Выбьем оттуда татар, - скота у нас будет как звезд на небе. Железо нам нужно? - руда под ногами. На Урале - горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас? Позовем англичан, голландцев. Своих заставим. Не оглянетесь - будут у нас всякие мануфактуры. Наукам и искусствам посадских людей обучим. Купца, промышленника вознесем, как и не чаяли.
Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланникам. От вина и его речей пришли они в изумление. В зальце было душно. Лефорт велел мажордому раскрыть оба окна и с удовольствием втягивал ноздрями талый, холодный воздух. До вечерней зари он осушал чаши за великие прожекты. Вечером поехал к польскому послу и там танцевал и пил до утра.
На другой день Франц Яковлевич, против обыкновения, почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог, - зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Он нюхал мочу и мокроты, цыкал языком, скреб нос. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.
Пастор Штрумпф (вслед за служкой, звонящим в колокольчик), держа над головой дары, с трудом протискивался в большом зале. Лефортов дворец гудел голосами, - съезжалась вся Москва. Хлопали двери, дули сквозняки. Суетились потерянные слуги, иные уже пьяные. Жена Лефорта, Елизавета Францевна, встретила пастора у дверей в мужнину спальню, - увядшее лицо - в красных пятнах, унылый нос - исплакан. Малиновое платье кое-как зашнуровано, жиденькие прядки волос висели из-под парика. Адмиральша была до смерти напугана, видя столько подъезжающих знатных особ. По-русски она почти не говорила, всю жизнь провела в задних комнатах. Суя сложенные ладони в грудь пастору, шептала по-немецки:
Что я буду делать? Такое множество гостей… Господин пастор Штрумпф, посоветуйте мне - может быть, подать легкую закуску? Все слуги - как сумасшедшие, никто меня не слушает. Ключи от кладовых под подушкой у бедного Франца. (Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральши, она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него.) Господин пастор Штрумпф, я боюсь выходить в зало, я так всегда теряюсь… Что будет, что будет, пастор Штрумпф?
Пастор приличным случаю баском сказал адмиральше утешительные слова. Провел ладонью по сизообритому лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню.
Лефорт лежал на широкой измятой постели. Туловище его было приподнято на подушках. Щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза - черные, неподвижные.
Лекарь Поликоло отвел в сторону пастора Штрумпфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами.
Сухие жиды, - сказал он, - коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в сем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия оных мокротами.
Пастор Штрумпф тихо сел у изголовья умирающего. Лефорт недавно очнулся от бреда и беспамятства и о чем-то заметно беспокоился. Услышав свое имя, он с усилием перевел было глаза на пастора и опять стал глядеть туда, где в камине дымило серое полено. Там, над каминными завитками, лежал Нептун - бог морей - с трезубцем, под локтем его из золоченой вазы лилась золотая вода, разбегаясь золотыми завитками. Посредине, в черной дыре, дымило полено.
Штрумпф, стараясь отвратить взор адмирала к распятию, говорил о надежде на вечное спасение, в коем не отказано никому из живущих… Лефорт что-то пробормотал невнятно. Штрумпф нагнулся к лиловым губам его. Лефорт - сквозь частое дыхание:
Много не говори…
Все же пастор исполнил свой долг: дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями, с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:
Позови музыкантов… Друзей… Чаши…
На цыпочках вошли музыканты, - неодетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам и на шестидесяти рогах - серебряных, медных и деревянных - заиграли менуэт, роскошный танец.
Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки, - вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть.
Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти - Кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели: приворотным зельем опаивал он царя Петра, - да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо - Лефортов дворец…
Рассказывали: помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плясицам плясать, и сам - зеленый, трупный - сорвался с постели, дай заскакал… А во дворце на чердаке как завоет, засвищет нечистая сила!..
Семь дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. Четыре офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, четыре - внизу, у помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле.
Бояре всходили на помост, свернув нос и губы в сторону, - чтобы не опоганиться, - касались щекой синей руки чертова адмирала. Потом, подойдя к вдове, - поясной поклон: пальцами до полу, и - прочь со двора…
На восьмой день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его, - шестерней - Пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Разномастные лошади с трудом поводили мокрыми ребрами. Из-за полости высунулась рука, - шарила ремень - отстегнуть.
Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова, на крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.
Отъезжай с клячами, ну, чего стал на дороге, - сказала она царскому кучеру.
Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из возка полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез, высокий: Санька, глядя на него, задрала голову… Кругловатое лицо - осунувшееся, глаза - припухшие, темные усики - торчком. Батюшки, - царь!..
Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись. Узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. Сказал глухо:
Горе, горе… - И пошел во дворец, размахивая рукавами тулупа. Санька - за ним.
Вдова на стуле, увидев царя, обомлела. Сорвалась. Хотела пасть в ноги. Петр обнял ее, прижал, поверх ее головы, глядел на гроб. Подбежали слуги. Сняли с него тулуп. Петр косолапо, в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик, и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном, затылок натянулся.
У Саньки, глядевшей на его спину, глаза раскисли от слез, - подпершись по-бабьи, тихо, тонко выла. Так жалела, так чего-то жалела… Он пошел с помоста, сопя, как маленький. Остановился перед Санькой. Она горько закивала ему.
Другого такого друга не будет, - сказал он. (Схватился за глаза, затряс темными, слежавшимися за дорогу, кудреватыми волосами.) - Радость - вместе и заботы - вместе. Думали одним умом… - Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В зало входили, торопливо крестясь, бояре - человек десять.
По месту - старшие первыми - они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи.
Петр ни одного на них не поднял, не обнял, не кивнул даже, - стоял чужой, надменный. Раздувались крылья короткого носа.
Рады, рады, вижу! - сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок.
Этой осенью в Немецкой слободе, рядом с лютеранской киркой, выстроили кирпичный дом по голландскому образцу, в восемь окон на улицу. Строил приказ Большого дворца, торопливо - в два месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монс с матерью и младшим братом Виллимом.
Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называли - царицын дворец… Анна Ивановна завела важный обычай: мажордома и слуг в ливреях, на конюшне - два шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи.
К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии - выпить кружку пива. «Хе-хе, - вспоминали немцы, - давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: „Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво…“
Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению, - в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно. Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрумпф. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности. Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме.
За эти годы она налилась, красотой: в походке - важность, во взгляде - покой, благонравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете, - царь приезжал к ней спать, только. Ну, а дальше что? Из Поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убирать себя драгоценностями не хуже других, и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича, величиной в малое блюдце, в алмазах. Нужды, отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.
Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному. Анна Ивановна слала ему письмеца, и - при каждом случае - цитронов, апельсинов по полдюжине (доставленных из Риги), колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовника? Ну, как привяжется к нему баба какая-нибудь, въестся в сердце? Ночь без сна ворочалась на перине. Все непрочно, смутно, двоесмысленно. Враги, враги кругом - только и ждут, когда Монсиха споткнется.
Даже самый близкий друг - Лефорт, - едва Анна Ивановна околицами заводила разговор - долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки, - усмехался: неопределенно, - нежно щипал Анхен за щечку: «Обещанного три года ждут…» Ах, никто не понимал: даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна, - власть беспокойна, ненадежна… Нет, только прочности, опрятности, приличия…
Оставалось одно средство - приворот, ворожба. По совету матери, Анна Ивановна однажды, вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью… Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском, с тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха приваживала в задние комнаты баб-ворожей. Но открыться им - на кого ворожить - боялись и мать и дочь. За колдовство князь-кесарь Ромодановский вздергивал на дыбу.
Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек (с достатком), - ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик, - пусть без мажордома, - солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках, пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение, звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем…
Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти семь дней (до приезда Питера), что старая Монсиха велела привезти лекаря Поликоло. Тот приказал промывательное и очистительное, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна - сама хорошенько не понимая почему - с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой от зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток. (Шутили, стуча зубами.) Не глядя ни на кого, заговорил непонятно:
Не четыре полка, их - легион… На плахи ложились - все крестились двумя перстами… За старину, за нищенство… Чтобы наготовАть и юродствовать… Посадские люди! Не с Азова надо было начинать, - с Москвы!
По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время. Чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек… Зачем? Уж не антихрист ли и вправду он, как шепчут русские? По вечерам в постели, при кротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно:
Мама, мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его. Он придет - нетерпеливый… Я - мертвая… Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу.
Неприбранная, с припухшими веками, неожиданно утром она увидела в окно, как за изгородью на ухабистой улице остановился царский возок. Не засуетилась на этот раз: пусть - какая есть, - в чепце, в шерстяной шали. Идя через садик, Петр тоже увидел ее в окошке, покивал без улыбки. В сенях вытер о коврик ноги. Трезвый, смирный.
Здравствуй, Аннушка, - сказал мягко. Поцеловал в лоб. - Осиротели мы. - Сел у стены, около стенных часов, медленно качавших смеющимся медным лицом на маятнике. Говорил вполголоса, будто дивясь, что смерть так неразумно оплошала. - Франц, Франц… Плохим был адмиралом, а стоил целого флота. Это - горе, это - горе, Аннушка… Помнишь, как в первый раз привел меня к тебе, ты еще девочка была - испугалась, как бы я не сломал музыкальный ящик… Не того смерть унесла… Нет Франца! - непонятно…
Анна Ивановна слушала, - закрылась до самых глаз пуховой шалью. Не приготовилась - не знала, что ответить. Слезы ползли под шаль. За дверью осторожно позвякивали посудой. Всхлипнув носом, полным слез, пробормотала, что Францу, наверно, хорошо сейчас у бога. Петр странновато взглянул на нее…
Питер, вы ничего не ели с дороги, прошу вас остаться откушать. Как раз сегодня ваши любимые поджаренные колбаски…
С тоской видела, что и колбаски его не прельстили. Присела рядом, взяла его руку, пахнущую овчиной, стала целовать. Он другой рукой погладил ей волосы под чепцом:
Вечерком заеду на часок… Ну, будет тебе, будет, - всю руку замочила… Поди принеси колбаску, чарку водки… Поди, поди… А то мне дела много сегодня…
Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей цугом (в шестнадцать вороных коней) несли на подушках шляпу, шпагу и шпоры адмирала. Ехал всадник в черных латах и перьях, держа опрокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними - бояре, окольничие, думные и московские дворяне - до тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев.
Не видя поблизости царя, кое-кто из бояр понемногу рысью опережал иноземных послов, чтобы первым быть в шествии. Послы пожимали плечами, перешептывались. У кладбища их совсем оттерли. Роман Борисович Буйносов и весьма глупый князь Степан Белосельский брели у самых колес, держась за колесницу. Многие русские были навеселе: собрались к выносу чуть свет, подвело животы, не дожидаясь поминок, потеснились у столов, уставленных блюдами с холодной едой, поели и выпили.
Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича:
Почему они вперед послов пролезли? Кто велел?
Я уж срамил, лаял, не слушают, - тихо ответил Лев Кириллович.
Собаки! (И - громче.) Собаки, не люди! - Дернул шеей, завертел головой, лягнул ботфортом. Послы и посланники протискивались сквозь раздавшуюся толпу бояр к могиле, где один, около открытого гроба, чужой всем, озябший, в суконном кафтанишке, стоял царь. Все со страхом глядели, что он еще выкинет. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.
Закрывай… Опускай…
Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить, - огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:
«Чертушку похоронили, а другой остался, - видно, еще мало людей перевел».
Торговых и промысловых дел добрые люди, оставя сани за воротами и сняв шапки, поднимались по длинной - едва не от середины двора - крытой лестнице в Преображенский дворец. Гости и купцы гостиной сотни приезжали на тройках, в ковровых санях, - входили, не робея, в лисьих, в пупковых шубах гамбургского сукна. Обветшалая палата была плохо топлена. Бойко поглядывая на прогнувшийся щелястый потолок, на траченное молью алое сукно на лавках и дверях, говорили:
Строеньице-то - не ахти… Она и видна боярская-то забота. Жалко, жалко…
Собрали сюда торговых людей наспех, по именным спискам. Кое-кто не приехал, боясь, как бы не заставили есть из никонианской посуды и курить табак. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и гостиныя сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах чинятся большие убытки и разорение … Милосердуя, он, государь, об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах, и в сборах государственных доходов - ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать им меж себя погодно добрых и правдивых людей, - кого они меж себя похотят. А из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом… Торговые агенты правительства из богатых купцов. В городах, в посадах и слободах указано ж выбирать для суда и расправы и сбора окладных податей земских бурмистров из лучших и правдивых людей, а для сбора таможенных пошлин и питейных доходов выбирать таможенных и кабацких бурмистров - кого похотят. Бурмистрам думать и торговыми и окладными делами ведать в особой Бурмистерской палате, и ей со спорами и челобитными входить - мимо приказов - к одному государю.
Для Бурмистерской палаты отведено было в Кремле, близ храма Иоанна-Предтечи, строение староцарского дворца, с подвалами - где хранить казну.
Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег (давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской - теперь сами там сели): ветхий дворец покрыли новой крышей - под серебро, покрасили снаружи и внутри, вставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу.
За избавление от воеводского разорения и приказной неправды купечество должно было теперь платить двойной против прежнего оклад. Казне - явная прибыль. Ну, а купечеству? - как сказать…
Действительно, от воевод, от приказных людей и людишек не стало житья: алчны, как волки, не уберегись - горло перервут, в Москве затаскают по судам, разденут, а в городах и посадах затомят на правеже на воеводином дворе. Это все так…
Но многие, - конечно, кто похитрее, - оберегались и жили не совсем плохо: воеводе поклонился рублем, подьячему послал сахарцу, сукнеца или рыбки, повытчика зазвал откушать чем бог послал. У иного богатея не то что воевода или приказный - дьявол не дознается, сколько у него товаров и денег. Конечно, такие орлы, - Митрофан Шорин - первый купец гостиной сотни, или Алексей Свешников, - эти, - как на ладони, к ним на двор и митрополит ездит. Рады платить хоть тройной оклад в Бурмистерскую палату, - там им честь, и сила, и порядок. Ну, а, скажем, Васька Ревякин старший? В лавчонке его в скобяном ряду товару на три алтына, - сидит, глаза тряпочкой вытирает. А, между прочим, знающие люди говорят: кабальных душ крестьянских за ним, посчитать, тысячи три. Не то что мужик или посадский, - редкий купец не бывал у него в долгу по тяжелой записи. И нет такого города, такого посада, где бы Ревякин не держал скобяного склада и лавчонки, и все это у него записано на родственников и приказчиков. Ухватить его никакими средствами нельзя: как налим - гол и скользок. Ему Бурмистерская палата - разорение, - от своих не скроешься.
В ожидании царского выхода купечество - постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали: нужны, значит, денежки надеже-государю, хочет поговорить по душам. Давно бы так, - по душам-то… Бывавшие здесь впервые не без страха поглядывали на раскрашенные львами и птицами двери сбоку тронного места (трона не было, остался один балдахин).
Петр вышел неожиданно из боковой дверцы, - был в голландском платье, - красный, видимо, выпивший. «Здорово, здорово», - повторял добродушно, здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним - несколько человек: Митрофан Шорин и Алексей Свешников (в венгерских кафтанах); братья Осип и Федор Баженины - серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах; низенький и важный Иван Артемич Бровкин - скоробогатей - обрит наголо, караковый парик до пупа; суровый думный дьяк Любим Домнин и какой-то - по одеже простой посадский - неведомый никому человек, с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех.
Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. «Садитесь, садитесь», - сказал придвинувшемуся купечеству. Помялись. Он велел, дернул головой. Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Домнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них:
Вот таких бы побольше у нас… Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать… В Англии, в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры, и нам - ввести тот же обычай. Верно я говорю? (Обернулся направо, налево. Приподнял бровь.) Вы что мнетесь? Денег, боитесь, буду у вас просить? По-новому надо начинать жить, купцы, вот что я хочу…
Момонов, богатый суконщик, спросил, поклонясь:
Это как - по-новому жить, государь?
Отучаться жить особе… Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя, вы - люди торговые… Учиться надо торговать не в одиночку - кумпаниями. Ост-Индская кумпания в Голландии - милое дело: сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли… Нам у них учиться… В Европе - академии для сего. Желаете - биржу построим не хуже, чем в Амстердаме. Составляйте кумпании, заводите мануфактуры… А у вас одна наука: не обманешь - не продашь…
Молодой купчик, влюбленно глядевший на царя, вдруг ударил шапкой о руку:
Это верно, у нас это так…
Его стали тянуть за полу в толпу. Он, - вертя головой, пожимая плечами:
А что? Разве не правда? На обмане живем, один обман, - обвешиваем, обмериваем…
Петр засмеялся (невесело, баском, кругло раскрыв рот). Близстоящие также посмеялись вежливо. Он, оборвав смех, - строго:
Двести лет торгуете, - не научились… Возле богатства ходите… Опять все то же убожество, нагота. Копейку наторговал и - в кабак. Так, что ли?
Не все так, государь, - проговорил Момонов.
Нет так! (Раздувая ноздри.) За границу поезжайте, поглядите на тех купцов - короли! Нам ждать недосуг, покуда сами научитесь… Иную свинью силой надо в корыто мордой совать… Почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое… Лес, руды, промыслы… Почему свои не могут? В Воронеж, черт те откуда, один человек приехал, такие развел тарара, такие прожекты! У вас, говорит, золотой край, только люди вы бедные… Отчего сие? Я смолчал… Спрашиваю, - или не те люди живут в нашем краю? Оглянул купцов вылезшими глазами.) Бог других не дал, С этими надо справляться, так, что ли? Мне русские люди иногда - поперек горла… Так уж поперек. (Ухо у него натянулось, шейная жила вот-вот дернется.)
Тогда Иван Артемич, сидевший рядом с ним, проговорил добро, нараспев:
Русских били много, да били без толку, вот и уроды получились.
Дурак! - крикнул Петр. - Дурак! - И локтем ткнул его в бок.
Иван Артемич - еще придурковатое:
Ну, вот, а я-то что говорю…
Петр с минуту бешено глядел на лоснящееся, придурковато сощуренное, с дурацкой улыбкой лицо Бровкина. Ладонью щелкнул его по лбу:
Ванька, шутом быть тебе еще не велено!
Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве - не разумно. Купцы - не бояре: тем податься некуда, вотчину в кармане не унесешь. Купец, как улитка: чуть что - рожки спрятал и упятился с капиталом… Действительно, в палате стало тихо, отчужденно. Иван Артемич хитрой щелкой глаза повел на Петра.
Читай, Любим, - сказал Петр дьяку.
Братья Баженины опять почтенно потупились. Любим Домнин высоким голосом сухо, медленно читал:
- «…дана сия милостивая жалованная грамота за усердное радение и к корабельному строению тщание… В прошлом году Осип и Федор Баженины в деревне Вовчуге построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров, сами собою, чтобы на той мельнице лес растирать на доски и продавать в Архангельске иноземцам и русским торговым людям. И они лес растирали, и к Архангельску привозили, и за море отпускали. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. И мы, великий государь, их пожаловали, - велели им в той их деревне строить корабли и яхты и, которые припасы к тому корабельному строению будут вывезены из-за моря, пошлин с них имать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, - держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелье против иных торговых иноземческих кораблей…»
Долго читал дьяк. Свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги, - все чин чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю, - ликуясь щечкой, - а в рот, крепко.
То дорого, что почин, - сказал он купечеству. Отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородой, залысым лбом. - Демидыч! (Тот, резко пхаясь, пролез сквозь толпу.) - Демидыч, поклонись купечеству… Никита Демидов Антуфьев - тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него коротки. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо - земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, я за тебя поручусь…
Ты кто? Тебе зачем? Кого здесь нужно?
Суровая широкоплечая баба недобрым взглядом осматривала Андрея Голикова (палехского иконописца). У него под коричневой, в дырах и клочьях, сермягой пупырчатая кожа мелко дрожала. Дул сырой мартовский ветер. Свистели голые кусты на обветшалой стене Белого города. Тревожно кричали вороны, взлетая, - косматые и голодные, - над кучами мусора. Неперелазные заборы купца Василия Ревякина тянулись вдоль сошедшихся углом московских стен. Место было угрюмое, переулки тесные, пустынные.
От старца Авраамия, - прошептал Андрей, плотно приложил два перста ко лбу. За спиной бабы, на разъезженном колеями дворе, у покосившихся амбаров, вставали на дыбки на цепях поджарые кобели… Андрюшка весь обледенел, горячи были одни глаза. Баба, помедлив, пропустила его на двор, указала идти по брошенным в грязь доскам к высокому и длинному строению, без лестницы и крыльца. Под самой крышей хлопали ставни на слюдяных окошечках.
Спустились в темные сени, где пахло кадками. Баба толкнула Андрюшку.
Ноги вытри о солому, не в хлеву, - и, подождав, - все так же недружелюбно: - Во имя отца и сына и святого духа.
Отворила низенькую дверь в подклеть. Здесь было жарко, углями из печи озарялись в углу темные доски икон. Андрей долго крестился на страшные глаза древних ликов. Робея, остался у двери. Баба села. За стеной глухо пели многие голоса.
Зачем тебя старец послал?
На подвиг.
На три года к старцу Нектарию.
К Нектарию, - протянула баба.
Сюда послал, чтобы к нему дорогу указали. В мире жить не могу, - телу голодно, душе страшно. Боюсь. Ищу пустыни, райского жития… (Андрюшка потянул носом.) Смилуйся, матушка, не прогони.
Старец Нектарий сотворит тебе пустыню, - проговорила баба загадкой. Видные от света углей глаза ее сузились.
Андрей стал рассказывать: вот уже более полугода он бродит меж двор, умирает голодною и озябает студеною смертью. Связывался со всякими людьми, подбивали его на воровские дела. «Не могу, душа ужасается». Рассказывал, как этой зимой в снежные вьюги ночевал под худыми крышами городских стен: «Соломки достану, рогожей укроюсь. Вьюга воет, снег крутит, мертвые стрельцы на веревках пляшут, о стену бьются. Взалкал в эти ночи тихого пристанища, безмолвного жития…»
Расспросив доточно про старца Авраамия, баба со вздохом поднялась: «Иди за мной». Повела Андрюшку опять через темные сени вниз по ступеням. Велев быть на нищем месте, впустила в подполье, где пели голоса. Горячо пахнуло воском и ладаном. Человек тридцать и более стояло на коленях на скобленом полу. За бархатным аналоем читал кривоплечий человек в черном подряснике и скуфье. Перелистывая ветхую страницу рукописного требника, поднимал клочкастую бороду к свечным огням. По всей стене, даже от пола, горели свечи перед большими и малыми иконами старого новогородского письма.
Служили по беспоповскому чину. Пели сумрачно, гнусовато. Направо от старца, впереди молящихся, на коленях стоял маленький козлинобородый Василий Ревякин. Перебирал лествицу, то вскидывал глаза на лики, то, чуть обернувшись, косился, - и под глазком его молящиеся истовее клали поклоны, даже до изъязвления лба.
Кривоплечий старец закрыл книгу, поднял ее над головой, повернулся: выдранная клочками борода, нестарое лицо с перешибленным носом. Вперясь расширенными зрачками будто в страшное видение, разинув рот с выбитыми зубами, возопил:
Праведного Ипполита, папы римского, словеса помянем: «По пришествии времени антихристова церковь божия позападает и упразднится жертва бескровная. Прельщение содеется в градах и в селах, в монастырях и в пустынях. И никто не спасется, только малое число…»
Братие, что я вам расскажу (окончив службу, говорил старец, схватясь за деревянный крест на груди). Была надо мной милость божия. Привел господь меня на Вол-озеро, в пустынь, к старцу Нектарию. Поклонился я старцу, и он спросил меня: «Что хочешь: душу спасти или плоть?» Я сказал: «Душу, душу!» И старец, сказал: «Благо тебе, чадо». И душу мою спасал, а плоть умерщвлял… Кушали мы в пустыне вместо хлеба траву папорть, и кислицу, и дубовые желуди, и с древес сосновых кору отымали и сушили и, со рыбою вместе истолокши, - то нам и брашно было. И не уморил нас господь. А како я терпел от начальника моего с первых дней: по дважды на всякий день бит был. И в светлое воскресенье дважды был бит. И того за два года сочтено у меня по два времени на всякий день - боев тысяча четыреста и тридесять. А сколько ран и ударов было на всякий день от рук его честных - того и не считаю. Пастырь плоть мою сокрушал: что ему в руках прилучилось - тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и пестом, чем в ступе толкут, и кочергою, и поварнями, в чем яству варят, и рогаткою, чем тесто творят… Того ради тело мое начальник изъязвлял, чтобы душа темная просветилась… Коромыслом, на чем ушаты с водою носят, тем древом из ноги моей икра выбита, чтобы ноги мои на послушание готовы были. И не только древом всяким, но и железом, и камением, и за власы рванием, а ино и кирпичом тело мое смирял. В то время персты рук моих из суставов выбиты, и ребра мои и кости переломаны. И господь не уморил меня. Ныне немощен телом, но духом светел… Братие, не разленитесь о душе своей.
Не разленитесь о душе своей, - три раза провопил старец, немилосердно въедаясь глазами в оробевшую паству. Здесь были все родственники, свояки, крепостные люди Василия Ревякина; его приказчики, амбарные и лавочные сидельцы. Слушая, они сокрушенно вздыхали. Иные не вытерпливали исступленного взгляда старца. Андрей Голиков сгибался от рыданий, схватив себя за щеки, плакал, желтые лучи от огоньков свечей сквозь слезы колыхались по всей моленной, будто крылья архангелов.
Старец поясно поклонился пастве и отошел. На место его встал сам Василий Ревякин, низенький, седатый, вместо глаз - две морщины, где непойманно бегали зрачки. Перебирая лествицу, тихо, человечно заговорил:
Дорогие мои, незабвенные… Страшно! Возлюбленные, страшно! Был светел день, нашла туча, все житие наше смрадом покрыла… (Оглянулся через правое, через левое плечо, будто не стоит ли кто за ним. Мягко в чесаных валеночках шагнул вперед.) Антихрист уж здесь. Слышите? Воссел на куполах церкви никонианской. Щепоть - печать его, щепотникам нет спасения: уж пожраны суть… И тем, кто пьет и ест со щепотниками, нет спасения. Кто от попа таинство примет - нет спасения, - просфоры их клейменые и священство их мнимое… Как нам спастись? Мы слышали, как спасаются-то. Никого не держу, - идите, уходите, милые, примите муки, просветитесь. Лишними заступниками будете за нас, грешных и слабых. Может, и сам я уйду… Амбары, лавки закрою, товары, животишки раздам нищим. Единое спасение - дедовская вера, послушание да страх… (Горько помотал бородкой, вытер ресницы суконным рукавом. Паства затихла. Не дышали, не шевелились.) Благо, кому вместится… А кому не вместится - и тот не отчаивайся… Старцы замолят. Одного больше смерти бойтесь - как бы лукавый под локоть не толкнул… Не прежние времена: слуги его невидимые обступили каждого, только того и ждут… Согреши, душой покриви, копейку утаи от хозяина… Будто бы - малость? Копейка! Нет… Кинутся на тебя, и пропал, - на вечную муку… Бойтесь, чтобы старцы молиться за вас не перестали… (Еще шагнул вперед, лестовкой хлестнул себя по ляжке.) Ишь ты, прельщение какое: Бурмистерсная палата!.. Вот где - ад, прямой ад… От древности купечество платило оклады в казну, и за всем тем мое тайное дело: чем торгую, как торгую… Господь разумом наградил - вот и купец. А дурачок век в батраках прозябнет. Бурмистров выбирать! Он и в амбар, он и в сундук ко мне… Все ему скажи, все покажи… Зачем! Кому нужно! Антихристову сеть накидывают на купечество… А еще - почта! Зачем? Я верного человека пошлю в Великий Устюг, скорее почты доедет и скажет, что нужно, - тайно… А почтой, - разве я знаю, какой человек мое письмо повезет? Нет, нам ни почты не надо, бурмистеров не надо, окладов двойных не платить, и с иноземцами, с никонианами табаку не курить. (Не хотел, а рассердился. Дрожащей лиловатой рукой полез в карман, вынув платок, вытерся. Покачал головой, глядя на догоравшие свечи. Вздохнул тяжело и кончил.) Ужинать пойдемте…
Все, кто был в моленной, пошли через сени и поварню рядом в подклеть. Сели за дощатый стол, покрытый крашениной, в красном углу, где ужинали Василий Ревякин и трое старых приказчиков - его двоюродные братья. Попросили было и старца под образа. Но он вдруг громко плюнул и пошел к двери, к нищим, сидевшим на полу. С ними был и Андрей.
Посреди стола горела сальная свеча. Из темноты приходила суровая баба с полными чашками. Иногда с потолка падал таракан. Ели молча, степенно жевали, тихо клали ложки. Андрей пододвинулся поближе к старцу. Держа чашку на коленях, согнувшись, капая на клочкастую бороду, старец судорожно хлебал, обжигался, - хлеб ел маленькими кусками. Откушав и помолясь, сложил на животе руки. По замутившимся глазам видно было, что подобрел.
Андрей тихо ему:
Батюшка мой, хочу к старцу Нектарию… Пусти.
Старец задышал часто. Но глаза опять осовели:
Ужо, лягут спать, - приходи в моленну. Я тебя попытаю.
Андрей содрогнулся, - в тоске, в обречении стал ерзать затылком по заусенцам бревенчатой стены…
С юга, с Дикого поля, дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах, заливавших равнину. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж-река, затопило верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные нептуньи морды. Трепало паруса, поднятые для просушки. В мутных водах шуршали, ныряя, последние льдины. Над стенами крепости - на правой стороне реки, напротив Воронежа, - взлетали клубы порохового дыма, ветер рвал их в клочья. Катились по водам пушечные выстрелы, будто сама земля взбухала и лопалась пузырями.
На верфи шла работа день и ночь. Заканчивали отделку сорокапушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. К нему то и дело отплывали через реку ладьи, груженные порохом, солониной и сухарями, - причаливали к его черному борту. Течением натягивало концы, трещало дерево. На корме, на мостике, перекрикивая грохот катящихся по палубе бочек, визг блоков, ругался по-русски и по-португальски коричневомордый капитан Памбург - усищи дыбом, глаза - как у бешеного барана, ботфорты - в грязи, поверх кафтана - нагольный полушубок, голова стянута шелковым красным платком. «Дармоеды! Щукины дети! Карраха!» Матросы выбивались из сил, вытягивая на борт кули с сухарями, бочки, ящики, - бегом откатывали к трюмам, где хрипели цепными кобелями боцмана в суконных высоких шапках, в коричневых штанах пузырями.
Над рекой на горе покривились срубчатые островерхие башни, за ветхими стенами ржавели маковки церквей. Перед старым городом по склону горы раскиданы мазаные хаты и дощатые балаганы рабочих. Ближе к реке - рубленые избы новоназначенного адмирала Головина, Александра Меньшикова, начальника Адмиралтейства Апраксина, контр-адмирала Корнелия Крейса. За рекой, на низком берегу, покрытом щепой, изрытом колесами, стояли закопченные, с земляными кровлями, срубы кузниц, поднимались ребра недостроенных судов, полузатопленные бунты досок, вытащенные из воды плоты, бочки, канаты, заржавленные якоря. Черно дымили котлы со смолой. Скрипели тонкие колеса канатной сучильни. Пильщики махали плечами, стоя на высоких козлах. Плотовщики бегали босиком по грязи, вытаскивали баграми бревна, уносимые разливом.
Главные работы были закончены. Флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через три дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага.
То и дело рвали дверь, входили новые люди, не раздеваясь, не вытирая ног, садились на лавки, а кто побольше - прямо к столу. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, - в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок.
Вице-адмирал Корнелий Крейс спал за столом, уткнув лицо в расшитые золотом обшлага. Шаутбенахт Чин, соответствующий контр-адмиралу. русского флота, голландец Юлиус Рез, - отважный морской бродяга, с головой, оцененной в две тысячи английских фунтов за разные дела в далеких океанах, - тянул анисовую, насупившись на свечу одноглазым свирепым лицом. Корабельные мастера Осип Най и Джон Дей, обросшие щетиной за эти горячие дни, попыхивали трубками, насмешливо подмигивали русскому мастеру Федосею Скляеву. Федосей только что пришел, - распустив шарф, расстегнув тулупчик, хлебал лапшу со свининой…
Федосей, - говорил ему Осип Най, подмигивая рыжими ресницами. - Федосей, расскажи, как ты пировал в Москве?
Федосей ничего не отвечал, хлебая. Надоело, в самом деле. В феврале вернулся из-за границы, и надо бы сразу - по письму Петра Алексеевича - ехать в Воронеж. Черт попутал. Закрутился в Москве по приятелям, и пошло. Три дня - в чаду: блины, закуски, заедки, винище. Кончилось это, как и надо было думать: очутился в Преображенском приказе.
Царь, узнав, что жданный любимец его Федосей сидит за князем-кесарем, погнал в Москву нарочного с письмом к Ромодановскому:
«Мин хер кениг… В чем держишь наших товарищей, Федосея Скляева и других? Зело мне печально. Я ждал паче всех Скляева, потому что он лучший в корабельном мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судия. Истинно никакого нет мне здесь помощника. А, чаю, дело не государственное. Для бога освободи и пришли сюды. Питер».
Ответ от князя-кесаря дней через десять привез сам Скляев:
«Вина его вот какая: ехал с товарищами пьяный и задрался у рогаток с солдатами Преображенского полку. И по розыску явилось: на обе стороны не правы. И я, разыскав, высек Скляева за его дурость, также и солдат-челобитников высек, с кем ссора учинилась. В том на меня не прогневись, - не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были».
Ладно. Тому бы и конец. Петр Алексеевич, встретив Скляева, обнимал и ласкал, и хлопал себя по ляжкам, и изволил не то что засмеяться, а ржал до слез… «Федосей, это тебе не Амстердам!» И письмо князя-кесаря за ужином прочел вслух.
Съев лапшу, Федосей оттолкнул чашку, потянулся к Осипу Наю за табаком.
Ну, будет вам, посмеялись, дьяволы, - сказал грубым голосом. - В трюм, в кормовую часть, лазили сегодня?
Лазили, - ответил Осип Най.
Нет, не лазили…
Медленно вынув глиняную трубку, опустив углы прямого рта, Джон Дей проговорил через сжатые зубы по-русски:
Почему ты так спрашиваешь, что мы будто не лазили в трюм, Федосей Скляев?
А вот потому… Чем мыргать на меня - взяли бы фонарь, пошли.
То-то, что течь. Как начали грузить бочки с солониной, - шпангоуты расперло, и снизу бьет вода.
Этого не может случиться…
А вот может. О чем я вам говорил, - кормовое крепление слабое.
Осип Най и Джон Дей поглядели друг на друга. Не спеша встали, надвинули шапки с наушниками. Встал и Федосей, сердито замотал шарф, взял фонарь.
Эх вы, генералы!
К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками что попадется с блюд: жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря…
У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами - линек. (Им он потчевал кого надо.) Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо-лениво:
Куда прешь, куда, бодлива мать?..
За перегородкой, в спальной половине, сидели сейчас государственные люди: адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин - начальник Адмиралтейства - и Александр Данилович Меньшиков. Этот, после смерти Лефорта, сразу жалован был генерал-майором и губернатором псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон: «Были у меня две руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная».
Алексашка, в Преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь, - у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда, где цезарский, польский, веницейский и московский послы договаривались с турками о мире.
Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтоб министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал. на коленях тетради с цифирьными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал:
Учинена мною с турецкими послами, рейс-эфенди Рами и тайным советником Маврокордато, армисциция, сиречь унятие оружия на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры: в Европе сейчас такая каша заваривается, - едва ли не на весь мир. Испанский король дряхл, не сегодня-завтра помрет бездетным. Французский король добивается посадить в Испанию своего внука Филиппа и уж женил его, держит при себе в Париже, ожидая - вот-вот короновать. Император австрийский, с другой стороны, хочет сына своего Карла посадить в Испанию…
Да, знаем, знаем это все, - нетерпеливо перебил Алексашка.
Потерпи уж, Александр Данилович, говорю, как умею (седым взором поверх очков Возницын тяжело уставился на красавца), решается великий спор меж Францией и Англией. Будет Испания за французским королем, - французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, - англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они и свели в Карловицах австрийцев с турками. Для войны с французским королем австрийскому цезарю надобно руки себе развязать. И турки усердно рады мириться, чтоб отдохнуть, собраться с силами: принц Евгений Савойский много у них земель и городов побрал за цезаря, в Венгрии, в Семиградской земле и в Морее, и цезарцы Цезарцы - австрийцы; Евгений Савойский - австрийский полководец; Семиградская земля, или Трансильвания, - восточная часть Румынии; Морея - южная часть Греции. уж в самый Цареград смотрят… Туркам сейчас забота - свое вернуть… Воевать отдаленно - с поляками или с нами - сейчас и в мыслях нет… Тот же Азов, - не стоит он того, что им надобно под ним потерять.
Так ли турецкий султан слаб, как ты успокаиваешь? Сомнительно, - проговорил Алексашка. (Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой.)
Алексашка, - подрожав ляжкой, позвенев шпорой:
А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют сорок тысяч городовых стрельцов, да в Ахтырке собран конный большой полк Шеина, да в Брянске готовы суда для переправы. Не с голыми руками тебя посылали… Армисциция!
Прокофий Возницын медленно снял очки. Трудно было привыкать к новым порядкам, - чтобы мальчишка без роду-племени так разговаривал с великим послом. Проведя сухой ладонью по задрожавшему от гнева лицу, Прокофий собрался с мыслями. Лаем, конечно, тут ничего не возьмешь.
А вот почему не мир, - учинена армисциция, Александр Данилович… Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с веницейцами, тайно, одни, переговаривались с турками. И поляки тайно от нас договорились. И нас бросили одних. Турки, приведя дела с цезарцами к удовольствию, с нами вначале и говорить не хотели, так надулись… Не будь там старинного моего знакомца Александра Маврокордато, - и армисциции бы у нас не было… Вы здесь сидите, господа министры, думаете - на вас вся Европа смотрит… Нет, для них мы - малый политик, можно сказать - никакой политик…
Ну, это еще бабка надвое…
Подожди, не горячись, Александр Данилович, - мягко остановил его Головин.
На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили… Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Еще будучи в Вене, взял я одного дохтура, бывалого поляка. Дохтура и стал засылать в турецкий стан к Маврокордато. Послал раз. Маврокордато велел кланяться. Послал в другой. Маврокордато велел кланяться и сказал, что студено. Я рад. Взял кафтан свой чернобурых лисиц, на малиновом сукне, послал его с дохтуром, велел ехать кругом посольских станов - степью. Маврокордато кафтан взял, на другой день посылает мне табаку, два чубука добрых да кофе с фунт, да писчей бумаги. Ах, ты, думаю, отдаривается… И опять ему на возу - икры паюсной, спинок осетровых, пять тешь белужьих больших, наливок разных… Да и сам поехал ночью в турецкий стан, один, в простом платье. А турки как раз в тот день подписали с цезарем мир…
Эх! - топнул шпорой Алексашка.
Маврокордато мне: «Вряд ли, говорит, будет у нас с вами удовольствие, если не вернете нам днепровские городки, чтобы Днепр запереть и ход вам заградить навсегда в Черное море, и Азов придется отдать, и крымскому хану вам дань платить по-старинному…» Вот, Александр Данилович, как с первого-то разговора турки начали задираться… А ведь я - один. Союзники свои дела кончили, разъехались… Воронежским флотом грожу. Турки смеются.
«В первый раз слышим, чтобы за тысячу верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через гирло вам не перелезть…» Грозил и украинским войском. а они мне - татарами: «Смотрите, у татар сейчас рука развязаны, как бы вам они не сделали как при Девлет-Гирее» При Иоанне Грозном крымцами была сожжена Москва и около полмиллиона человек убито и уведено в плен. . Не будь у турок заботы - обвалили бы они на нас войну… Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисциция - все-таки не война…
Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.
Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи, - все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей.
Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы - в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.
Наваривали лапы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпкой) ковырял в углях, приговаривал:
Не ленись, не ленись, поддай…
Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно длинными клещами поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое - наварка такой большой части…
Жемов, - обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:
Берись… Слушай… (И - Петру.) В самый раз, а то пережжем… (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались… Давай!..
Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов - уже шепотом:
Нагибай, клади… Клади плотнее… (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся веником стал смахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что ж ты! Давай!
Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне, - едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил…
Плотнее! - крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу, Жемов постукивал молотком - так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.
Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:
Что ж, бывает, Петр Алексеевич… Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то, - так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела…
Петр промолчал, вымыл руки в чану, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на «Крепости». Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу, у самой воды.
Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда, - с удовольствием закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюда.
Слышь-ка, - сказал он круглобородому человеку с удивленно задранными бровями (на маленьком лице - ярко-голубые глаза, - знаменитый корабельный плотник Аладушкин), - Мишка, вон то передай, - указал через стол на жареную говядину, обложенную мочеными яблоками. Присев на скамью, напротив спящего вице-адмирала, медленно - как пьют с усталости - выпил чарочку, - пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче. Жуя, плюнул косточкой в плешь Корнелию Крейсу:
Чего, пьяный, что ли?
Тогда вице-адмирал поднял измятое лицо и - простуженным басом:
Ветер - зюд-зюд-вест, один балл. На командорской вахте - Памбург. Я отдыхаю. - И опять уткнулся в расшитые рукава.
Поев, Петр сказал:
Что ж у вас тут невесело? - Положил кулаки на стол. Минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку. Сел на кровать. (Министры почтительно стояли.) Большим пальцем плотно набил в трубочку путаного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой: - Ну, здравствуй, великий посол.
Стариковские ноги Возницына, в суконных чулках, подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, - поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет. Петр сказал, навалясь локтем на подушку:
Алексаша, подними великого посла… Ты, Прокофий, не сердись, - устал я чего-то… (Возницын, отстраня Меньшикова, сам поднялся, обиженный.) Письма твои читал. Пишешь, чтобы я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, - по старинке. Верю… (Зло открыл зубы.) Цезарцы! Англичане! Ладно, - в последний раз так-то ездили кланяться… Сядь. Рассказывай.
Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском съезде. Петр все это уже знал из писем, - рассеянно дымил трубочкой.
Холоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил, если турок не задирать, то армисцицию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека - умного, хитрого… Пусть договаривается, время проводит, - где и посулит чего уступить, так ведь магометан, государь, и обмануть не грех, - бог простит.
Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.
Еще что скажете, бояре? (Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы.)
Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так, сразу, и ответить… По-прежнему, как говаривали в Думе, - витиевато, вокруг да около, - этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.
Ну? - спросил его Петр.
Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил канитель путать! Нынче нам так не подходит…
Лев Кириллович, - с одышкой, горячась:
Сам бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали. Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: охраните гроб господень. Молдавский и валахский господари едва не на коленях молят: спасти их от турецкой неволи. А мы, - да, господи! (Петр насмешливо: «А ты не плачь…» Лев Кириллович осекся, разинув рот и глаза. И - опять.) Государь, не быть нам без Черного моря! Слава богу, сила у нас теперь есть, и турки слабы… Не как Васька Голицын, - не в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград, - крест воздвигнуть на святой Софии.
Рогатые парики тревожно колыхались. Глаз Петра все так же поблескивал непонятно, трубочка похрипывала. Смирный Апраксин сказал тихо:
Мир лучше войны. Лев Кириллович, война - дорога. Замириться с турками хоть на двадцать пять лет, хоть на десять, не отдав ни Азова, ни днепровских городков, - чего лучше… (Покосился на Петра, вздохнул.)
Петр встал, но места - шагать - было мало, сел на стол.
Все мне на вас, на дворян, на вотчинников, оглядываться! Дворянское ополчение! Влезут, гладкие дьяволы, на коней, саблю не знают в какой руке держать. Дармоеды, истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми… Архангельск - одна дыра на краю света: англичане, голландцы что хотят, то и дают, за грош покупают… Митрофан Шорин рассказывал: восемь тысяч пудов пеньки сгноил в амбарах, три навигации выжидал цену. Энти ироды ходят мимо - только смеются… А лес! Заграницей лес нужен, весь лес - у нас, а мы кланяемся, купите… Полотно! Иван Бровкин: лучше, говорит, я его сожгу вместе с амбаром в Архангельске, чем отдам за такую цену… Нет! Не Черное море - забота… На Балтийском море нужны свои корабли.
Выговорил слово… Длинный, чумазый, глядел со стола выпученными глазами на господ министров. Насупились. Воевать с татарами, ну, с турками, хоть и трудно, - привычная забота. Но Балтийское море воевать? Ливонцев, поляков?.. Шведов воевать? Лезть в европейскую кашу? Лев Кириллович пошарил полной рукой по торчащей поле кафтана, вынул орехового шелка платок, вытерся. Возницын качал сухоньким лицом. Петр, - потащив из штанов кисет:
С турками теперь, не как Прокофий, по-новому будем просить мира… Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе…
Конечно! - вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами.
По мутному полноводному Дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром. Восемнадцать двухпалубных кораблей, впереди и позади них - двадцать галиотов и двадцать бригантин, скампавеи, яхты, галеры: восемьдесят шесть военных судов и пятьсот стругов с казаками далеко растянулись на поворотах реки.
С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби поемных озер. Караваны птиц летели на север. Иногда вдали белели меловые кряжи. Дул зюйд-ост, вначале противный ветер, - и много пришлось положить трудов, покуда не повернули по Дону на запад: заполаскивались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой:
«Никто не дерзнет отстать от командорского корабля, но за оным следовать под пеной. Ежели кто отстанет на три часа, - четверть года жалованья, ежели на шесть, - две трети, ежели на двенадцать часов, - за год жалованья вычесть».
После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные и влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля. Били склянки. Огоньки ползли на верхушки мачт. Убирались паруса, с плеском падал якорь. На помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса.
С темной громады «Апостола Петра» (где в звании командора состоял царь) ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвивалась в звездное небо ракета. В кают-компании собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре.
Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились шесть судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, два дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду. Соблазняли монахов игрой на ротах и двусмысленными шутками, пугали стрельбой из восьмисот корабельных пушек.
Снова по всей реке надувались паруса. Плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. Мимо новых боярских и монастырских вотчин, рыбных промыслов. Под городком Паньшиным видели на левом берегу тучи конных калмыков с длинными копьями, а на правом - казаков в четырехугольнике обоза, с двумя пушками. Калмыки и казаки съехались биться, не поделив табуны коней и осетровые ятови.
Воевода Шеин пошел на шлюпке к калмыкам, Борис Алексеевич Голицын - к казакам. Помирили. По сему случаю на зеленых холмах пировали под медленно плывущими облаками, под летящими караванами журавлей. Корнелиус Крейс с похмелья велел наловить черепах и сам сварил похлебку из них. Петр тоже велел наловить черепах и угостил бояр чудным блюдом, а когда поели, - показал черепашьи головы. Воеводе Шеину сделалось тошно. Много смеялись.
Двадцать четвертого мая, в жаркий полдень, из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло сорокапушечных кораблей.
Покуда виде-адмирал промеривал рукав Дона - Кутюрму, а Петр ходил на яхте в Азов и Таганрог - осматривать крепости и форты, - прибыло из Бахчисарая ханское посольство на красивых конях, с вьючным обозом. Разбили ковровые шатры, на холме воткнули бунчук - конский хвост с полумесяцем на высоком копье, послали переводчика узнать - примет ли царь поклон от хана и подарки? Послам ответили, что царь-де в Москве, а здесь его наместник адмирал Головин с бояры. Три дня веял бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях перед жерлами пушек. На четвертый посольство пришло на адмиральский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер, положили дары: кованый арчак для седла, сабельку, пистоли, нож, сбрую, - все - так себе, в серебре, с дешевыми каменьями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татары - на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, о том и о сем, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками:
Карош москов, карош флот… Только напрасно надеетесь, большими кораблями Кутюрмой вам не пройти, не так давно султанский флот как-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь…
По всему видно, что прибыли только для разведки. Наутро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме.
Промеры показали, что Кутюрма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйд-вест, - если нагонит в гирло морскую воду.
Из Таганрога вернулся Петр. Помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное на зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду. Неподвижно, с убранными парусами, корабли лежали в мареве зноя.
Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в Кутюрме продолжала спадать.
Двадцать второго июня в обеденный час шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя, багровый и тяжелый, из жаркой, как баня, кают-компании - помочиться с борта, - увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:
Идет шторм.
Петр, адмиралы, капитаны выскочили из-за стола. Разорванные облака неслись в вышину, из-за беловатой водной пелены поднимался мрак. Солнце калило железным светом. Мертво повисли флаги, вымпелы, матросское белье на вантах. По всем судам боцмана засвистали аврал - всех наверх! Крепили паруса, заводили штормовые якоря.
Туча закрывала полнеба. Помрачились воды. Мигнул широкий свет из-за края. Засвистало в снастях крепче, тревожнее. Защелкали вымпелы. Ветер налетел всею силой в крутящихся, раскиданных обрывках тьмы. Заскрипели мачты, полетели сорванные с вантов подштанники. Ветер мял воду, рвал снасти. Судорожно цеплялись за них матросы на реях. Топали ногами капитаны, перекрикивая нарастающую бурю. Пенные волны заплескались о борта. Треснуло небо раскатами, разрывающими душу ударами, загрохотало не переставая. Упали столбы огня.
Петр без шляпы, со взвитыми полами кафтана, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба, раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля, в гребни волн. Юлиус Рез закричал ему в ухо:
Это ничего. Сейчас будет самый шторм.
Шторм пролетел, натворив много бед. Молнией убило двух матросов на берегу. Порвало якорные канаты, сломило несколько мачт, повыкидало на берег, затопило много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйд-вест: то, что и надо было.
Вода в Кутюрме быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни гребных стругов, подхватив на длинных бечевах, повели первым «Крепость». От вехи к вехе, ни разу не царапнув килем, он вышел через Кутюрму в Азовское море, выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга.
В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли: «Апостол Петр», «Воронеж», «Азов», «Гут Драгерс» и «Вейн Драгерс». Двадцать седьмого июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога.
Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту «Крепости», посвистывая, стучал молотком по конопати. Либо, выпятив поджарый зад в холщовых замазанных штанах, лез по выбленкам на мачту - крепить новую рею. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев (поругавшийся до матерного лая с Джоном Деем и Осипом Наем). Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.
Петр Ликсеич, вы мне уж не мешайте, для бога, - неласково говорил Федосей, - плохо получится мое крепление, - отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку…
Ладно, ладно, я помогу только…
Идите помогайте вон Аладушкину, а то мы с вами только поругаемся…
Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез делал непрестанные ученья судовым командам, взятым из солдат Преображенского и Семеновского полков. Среди них много было детей дворянских, сроду не видавших моря. Юлиус Рез - по свирепости и отваге истинный моряк - линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бом-брам-реях, на двенадцати саженях над водой, прыгать с борта головой вниз в полной одежде: «Кто утонет, тот не моряк!» Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медецинского кобеля, все видел, пират, одним глазом: кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там, на стеньга-стакселе, грязный корофф, как травишь фалл?» Топал башмаком: «Все - на шканцы… Снашала!»
Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов Посольского приказа, с ним - дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю.
Четырнадцатого августа «Крепость» поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом, при крепком северо-восточном ветре вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. Семнадцатого с левого борта на ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани, флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Ни фортов, ни бастионов. Близ берега стояли четыре корабля. Турки, видимо, переполошились, - не ждали, не гадали увидеть весь залив, полный парусов и пушечного дыма.
Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. Он послал приставов на московский адмиральский корабль - спросить, зачем пришел такой большой караван. Месяц тому назад ханские татары доносили, что царский флот худой и совсем без пушек и через азовские мели ему сроду не пройти.
Ай-ай-ай… Ай-ай-ай, - тихо причитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли. Бросил. - Кто поверил ханским лазутчикам? - закричал он чиновникам, стоявшим позади него на башенной площадке, загаженной птицами. - Кто поверил татарским собакам?
Муртаза затопал туфлями. Чиновники, сытые и обленившиеся в спокойном захолустье, прикладывали руки к сердцу, сокрушенно качали фесками и чалмами. Понимали, что Муртазе придется писать султану неприятное письмо, и как еще обернется: султан, хоть и пресветлый наместник пророка, но вспыльчив, и бывали случаи, когда и не такой паша, кряхтя, садился на кол.
Косой парус фелюги с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава - два грека - явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, щелкая языками. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. Рассказали:
Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты-де не можешь пропустить посланника морем, - пусть едет, как все, через Крым на Бабу. Адмирал сказал: «А не хотите пускать морем, так мы всем флотом до Константинополя проводим посланника».
Муртаза-паша на другой день послал важных беев к адмиралу. И бей сказали:
Мы вас, московитов, жалеем, вы нашего Черного моря не знаете, - во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей на Бабу.
Адмирал Головин только надулся: «Испугали». И стоявший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись.
Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построения, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках. Откажи таким нахалам! Надеясь на одного аллаха, Муртаза-паша затягивал переговоры.
Шлюпка подошла к турецкому адмиральскому кораблю. На борт поднялись Корнелий Крейс и двое гребцов в голландском матросском платье - Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гассан-паша важно вышел из кормовой каюты, - был в белом шелковом халате, в чалме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил пальцы ко лбу и груди. Корнелий Крейс снял шляпу, пятясь, повел перьями перед Гассан-пашой.
Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым навесом. Низенький жирный человек - охолощенный повар - принес на подносе блюдца со сладкими заедками. кофейник и чашечки, чуть побольше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гассан-паша спросил про здоровье царя. Корнелий Крейс ответил, что царь здоров, и сам спросил про здоровье султанского величества. Гассан-паша низко склонился над столом: «Аллах хранит дни султанского величества…» Глядя печальными глазами мимо Корнелия Крейса, сказал:
В Керчи мы не держим большого флота. Здесь нам бояться некого. Зато в Мраморном море у нас могучие корабли. Пушки на них столь велики, - могут даже бросать каменные ядра в три пуда весом.
Корнелий Крейс, - прихлебывая кофе:
Наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по восемнадцати и по тридцати фунтов весом. Оные пронизывают неприятельский корабль сквозь оба борта.
Гассан-паша чуть поднял красивые брови:
Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы - лучшие друзья Турции…
Корнелий Крейс - со светлой улыбкой:
О Гассан-паша, люди служат тому, кто больше дает денег. (Гассан-паша важно наклонил голову.) Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю с Московией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете.
Гассан-паша - задумчиво:
Откуда у царя столько кораблей, господин вице-адмирал?
Московиты выстроили их сами в два года…
Ай-ай-ай, - качал чалмой Гассан-паша.
Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гассан-паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней, - чересчур были любопытны. Вон один полез на мачту, в бочку. Другой навострил глаз на английскую скоростреляющую пушку. Но из вежливости Гассан-паша промолчал, даже когда матросы увели московитов на нижнюю палубу.
Корнелий Крейс просил позволения съехать на берег - купить фруктов, сластей и кофе. Гассан-паша, подумав, сказал, что, пожалуй, он сам бы мог продать кофе господину вице-адмиралу.
Много ли тебе нужно кофе?
Червонцев на семьдесят.
Абдула-Алла, - крикнул Гассан-паша, топнул пяткой. Вперевалку подбежал охолощенный повар. Выслушав, вернулся с весами. За ним матросы тащили мешки с кофе. Гассан-паша удобнее подвинулся со стулом, проверил весы, вытащил из-за пазухи янтарные четки - отсчитывать меры. Приказал развязать мешок. Пересыпая в холеных пальцах зерна, полузакрыл глаза: - Это кофе лучшего урожая на Яве. Ты мне скажешь спасибо, господин вице-адмирал. Я вижу, ты - хороший человек. (Нагнувшись к его уху.) Не хочу тебе зла, - отговори московитов плыть морем: у берегов много подводных камней и опасных мелей. Мы сами боимся этих мест.
Зачем плыть вдоль берегов, - ответил Корнелий Крейс, - нашему кораблю курс прямой через море, был бы ветер попутный.
Он отсчитал семьдесят червонцев. Простились. Подойдя к трапу, Корнелий Крейс крикнул сурово:
Эй, Петр Алексеев!..
Петр, за ним Алексашка выскочили из люка, на обоих - красные фески. Вице-адмирал помахал адмиралу шляпой, сел на руль, шлюпка помчалась к берегу. Петр и Алексашка, налегая на гнущиеся весла, весело скалили зубы.
С прибойной волной шлюпка врезалась в береговую гальку. От крепостных ворот мимо гнилых лодок и прозеленевших свай торопливо шли пристава и давешние беи просить никак не заходить в город, а если нужда какая, купчишки принесут сюда, в шлюпку, всякие товары… У Петра забегали зрачки, гневом вспыхнули щеки. Алексашка, - держа поднятое торчком весло:
Мин херц, да скажи ты… Подойдем флотом на пушечный выстрел… В самом деле…
Не пускать - это их право: это - крепость, - сказал Корнелий Крейс. - Мы погуляем по берегу около стен, мы увидим все, что нужно.
Муртаза-паша больше ничего не мог придумать: плывите, аллах с вами. Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. Двадцать восьмого августа «Крепость», взяв на борт посла, дьяка и переводчиков, сопровождаемый четырьмя турецкими военными кораблями, обогнул керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма.
Турецкие корабли следовали за ним в пене за кормой. На переднем находился пристав. Гассан-паша остался в Керчи, - в последний час просил, чтоб дали ему хотя бы письменное свидетельство, что царский посланник едет сам собой, а он, Гассан, ему не советует. Но и в этом было отказано.
В виду Балаклавы пристав сел в лодку, поравнялся с «Крепостью» и стал просить зайти в Балаклаву - взять свежей воды. Отчаянно махал рукавом халата на рыжие холмы.
Хороший город, зайдем, пожалуйста.
Капитан Памбург, облокотясь о перила, пробасил сверху:
Будто мы не понимаем, приставу нужно зайти в Балаклаву - взять у жителей хороший бакшиш за посланничий корм. Ха! У нас водой полны бочки.
Приставу отказали. Ветер свежел. Памбург поглядел на небо и велел прибавить парусов. Тяжелые турецкие корабли начали заметно отставать. На переднем взвились сигналы: «Убавьте парусов». Памбург уставился в подзорную трубу. Выругался по-португальски. Сбежал вниз в кают-компанию, богато отделанную ореховым деревом. Там, у стола на навощенной лавке, страдая от качки, сидел посол Емельян Украинцев - глаза закрыты, снятый парик зажат в кулаке. Памбург - бешено:
Эти черти приказывают мне убавить парусов. Я не слушаю. Я иду в открытое море.
Украинцев только слабо махнул на него париком.
Иди куда хочешь.
Памбург поднялся на корму, на капитанский мостик. Закрутил усы, чтобы не мешали орать:
Все наверх! Слушать команду! Ставь фор-бом-брамсели… Грот… Крюс-бом-брамсели… Фор-стеньга-стаксель, фока-стаксель… Поворот на левый борт… Так держать…
«Крепость», скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя, как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград…
Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. Шестнадцать человек команды, - голландцы, шведы, датчане, все - морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки: идти было легко, шутя. Зато половина воинской команды - солдаты и пушкари - валялись в трюме между бочками с водой и солониной. Памбург приказывал всем больным отпускать водки три раза в день: «К морю нужно привыкать!»
Шли день и ночь, на второй день взяли рифы, - корабль сильно зарывался, черпал воду, пенная пелена пролетала по всей палубе. Памбург только отфыркивал капли с усов.
Сильно страдало качкой великое посольство. Украинцев и дьяк Чередеев, лежа в кормовом чулане, - маленькой свежевыкрашенной каюте, - поднимали головы от подушек, взглядывали в квадратное окошечко… Вот оно медленно падает вниз, в пучину, зеленые воды шипят, поднимаются к четырем стеклышкам, с тяжелым плеском заслоняют свет в чулане. Скрипят перегородки, заваливается низенький потолок. Посол и дьяк со стоном закрывали глаза.
Ясным утром второго сентября юнга, калмычонок, закричал с марса, из бочки: «Земля!» Близились голубоватые, холмистые очертания берегов Босфора. Вдали - косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех: «Мыться. Чистить кафтаны. Надеть парики».
В полдень «Крепость» под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На крепостном валу, на мачте, взвились сигналы: «Чей корабль?» Памбург велел ответить: «Надо знать московский флаг». С берега: «Возьмите лоцмана». Памбург поднял сигналы: «Идем без лоцмана».
Украинцев надел малиновый кафтан с золотым галуном, шляпу с перьями, дьяк Чередеев (костлявый, тонконосый, похожий на великомученика суздальского письма) надел зеленый кафтан с серебром и шляпу с перьями же. Пушкари стояли у пушек, солдаты - при мушкетах на шканцах.
Корабль скользил по зеркальному проливу. Налево, среди сухих холмов, - еще не убранные поля кукурузы, водокачки, овцы на косогорах, рыбачьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом берегу - пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к воде… Черно-зеленые деревья - кипарисы, высокие, как веретена. Развалины замка, заросшие кустарником. Из-за дерев - круглый купол и минарет… Подходя ближе к берегу, видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди дивились роскоши турецкой, земли:
«Все говорят - гололобые да бусурмане, а смотри, как живут!»
Разлился далекий, будто за тридевять земель, золотой закат. Быстро багровея, угасал, окрасил кровью воды Босфора. Стали на якорь в трех милях от Константинополя. В ночной синеве высыпали большие звезды, каких не видано в Москве. Туманом отражался Млечный Путь.
На корабле никто не хотел спать. Глядели на затихшие берега, прислушивались к скрипу колодца, к сухому треску цикад. Собаки, и те брехали здесь особенно. В глубине воды уносились течением светящиеся странные рыбы. Солдаты, тихо сидя на пушках, говорили: «Богатый край, и живут тут, должно быть, легко…»
Поглядывая задумчиво на огонек свечи, светом своим заслонявшей несколько крупных звезд в черном окошечке кормового чулана, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце (в сем случае вытирал его о парик), и цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу:
«…Здесь мы простояли около суток… Третьего числа подошли отставшие турецкие корабли. Пристав со слезами пенял нам, зачем убежали вперед, за это-де султан велит отрубить ему голову, и просил подождать его здесь: он сам известит султана о нашем прибытии. Мы наказали, чтобы прием нам у султана был со всякою честью. К вечеру пристав вернулся из Цареграда и объявил, что султан нас примет с честью и пришлет за нами сюда сандалы - ихние лодки. Мы ответили, что нет, - поплывем на своем корабле. И так мы спорили, и согласились плыть в сандалах, но с тем, что впереди будет плыть „Крепость“.
На другой день прислали три султанских сандала, с коврами. Мы сели в лодки, и впереди нас поплыл «Крепость». Скоро увидели Цареград, достойный удивления город. Стены и башни хотя и древнего, но могучего строения. Весь город под черепицу, зело предивные и превеликолепные стоят мечети белого камня, а София - песочного камня. И Стамбул и слобода Перу с воды видны как на ладони. С берега в наше сретенье была пальба, и капитан Памбург отвечал пальбой изо всех пушек. Остановились напротив султанского сераля, откуда со стены глядел на нас султан, над ним держали опахало и его смахивали.
Нас на берегу встретили сто конных чаушей и двести янычар с бамбуковыми батожками. Под меня и дьяка привели лошадей в богатой сбруе. И как мы вышли из лодки - начальник чаушей спросил нас о здоровье. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами. С боков бежал народ.
О твоем корабле здесь немалое удивление: кто его делал и как он мелкими водами вышел из Дона? Спрашивали, много ли у тебя кораблей и сколь велики? Я отвечал, что много, и дны у них не плоски, как здесь врут, и по морю ходят хорошо. Тысячи турок, греков, армян и евреев приезжают смотреть «Крепость», да и сам султан приезжал, три раза обошел на лодке кругом корабля. А наипаче всего хвалят парусы и канаты за прочность и дерево на мачтах. А иные и ругают, что сделан-де некрепко. Мне, прости, так мнится: плыли мы морем в ветер не самый сильный, и «Крепость» гораздо скрипел и набок накланивался и воду черпал. Строители-то его - Осип Най да Джон Дей, - чаю, не без корысти. Корабль - дело не малое, стоит города доброго. Здесь его смотрят, но не торгуют, и купца на него нет… Прости, пишу как умею.
А турки делают свои корабли весьма прилежно и крепко и сшивают зело плотно, - ростом они пониже наших, но воду не черпают.
Один грек мне говорил: турки боятся, - если твое царское величество Черное море запрешь, - в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят сюда из-под дунайских городов. Здесь слух, что ты со всем флотом уж ходил под Трапезунд и Синоп. Меня спрашивали о сем, я отвечал: не знаю, при мне не ходил…»
Памбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровье. Голландский и французский послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином поили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье - к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненнобородый лакей в сажень ростом. Придерживая дверь, спросил, что нужно? Памбург, загоревшись глазами, сказал, кто они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слишком скоро вернулся, хотя московиты ждали на улице, - проговорил насмешливо:
Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Памбургом видеться ему незачем.
Так ты скажи послу, чтобы он костью подавился! - крикнул Памбург. Бешено вскочил на коня и погнал по плоским кирпичным лестницам, мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак, вниз на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных и у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей.
Здесь Памбург с офицерами напились греческим вином дузиком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели - штурмана дальнего плаванья, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Памбург позвал пировать на «Крепость».
На другой день к кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций - шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры, - иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах, иные с головой, туго обвязанной красным платком, на босу ногу - туфли, за широким поясом - пистолеты, иные в кожаных куртках и зюйдвестках, пропахших соленой рыбой.
Сели пировать на открытой палубе под нежарким сентябрьским солнцем. На виду - за стенами - мрачный, с частыми решетками на окнах, дворец султана, на другой стороне пролива - пышные рощи и сады Скутари. Преображенцы и семеновцы играли на рожках, на ложках, пели плясовые, свистали разными птичьими голосами «весну».
Памбург в обсыпанном серебряною пудрой парике, в малиновой куртке с лентами и кружевами, - в одной руке - чаша, в другой - платочек, - разгорячась, говорил гостям:
Понадобится нам тысяча кораблей, и тысячу построим… У нас уж заложены восьмидесятипушечные, стопушечные корабли. На будущий год ждите нас в Средиземном море, ждите нас на Балтийском море. Всех знаменитых моряков возьмем на службу. Выйдем и в океан…
Салют! - кричали побагровевшие моряки. - Салют капитану Памбургу!
Затягивали морские песни. Стучали ногами. Трубочный дым слоился в безветрии над палубой. Не заметили, как и зашло солнце, как аттические звезды стали светить на это необыкновенное пиршество. В полночь, когда половина морских волков храпела, кто свалясь под стол, кто склонив поседевшую в бурях голову между блюдами, Памбург кинулся на мостик:
Слушай команду! Бомбардиры, пушкари, по местам! Вложи заряд! Забей заряд! Зажигай фитили! Команда… С обоих бортов - залп… О-о-огонь!
Сорок шесть тяжелых пушек враз выпыхнули пламя. Над спящим Константинополем будто обрушилось небо от грохота… «Крепость», окутанный дымом, дал второй залп…
Емельян Украинцев писал цифирью:
«…припал на самого султана и на весь народ великий страх: капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло…
Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальной в чем был и многие министры и паши испужались, и от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сераля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Я султану отвечал, что мне неизвестно, для чего капитан стрелял, и я его о том спрошу, и если султанову величеству стрельба учинилась досадна, я капитану вперед стрелять не велю и жестоко о том прикажу, но с корабля снимать мне его незачем. Тем дело и кончилось.
Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзоморта-пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета - мир с тобой учинить или войну».
I. Приветствие (1:1-2)
1-Пет. 1:1в . Петр, или по арамейски Кефас, - это имя дал Симону Иисус Христос, когда призвал его стать Его учеником (Иоан. 1:42). Никто другой в Новом Завете не звался так же: Петр, Апостол Иисуса Христа. Это прямое заявление о данной ему апостольской власти подтверждается как содержанием самого послания, так и тем фактом, что оно с самого начала было введено в канон Священного Писания.
1-Пет. 1:1б-2 . Апостол с самого начала тщательно подбирает слова с тем, чтобы ободрить и подкрепить своих читателей. Христиане - это избранники Божие не волей случая или по прихоти людей. Их избрал Сам Бог. Когда-то только израильтяне имели право носить титул Божиих избранников. Неудивительно поэтому, что мир смотрел на христиан как на чужестранцев (в греческом тексте стоит слово парепидемоис, что одновременно означает и "иностранец" и "временный житель", сравните 2:11). Верующие являются гражданами неба (Фил. 3:20) и действительно живут в языческом обществе как иностранцы и пришельцы, помыслы которых часто направлены к их родной стране.
Читатели, которым адресовано послание Петра, жили в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, то есть представляли собою все пять провинций Рима в Малой Азии. По-видимому, послание должно было переправляться из одной церкви в другую и таким образом обойти всю эту территорию. Слово "рассеянным" имело особое значение для евреев-христиан, входивших в состав упомянутых церквей. Они жили в рассеянии, вдали от своей родной страны. Апостол употребил это слово, ранее относившееся только к Израилю, - им подчеркивалось положение ранней церкви.
Апостол Петр не случайно употребляет слово избранным (сравните 2:9) но предведению Бога Отца… Божественное избрание является частью предвечного плана и основано не на заслугах тех, кто избран, а исключительно на Его милости и любви, которой Он возлюбил их еще до создания мира. В английском переводе Уильямса сказано, что Божие избрание находится в "согласии" с Его предвидением или предведением. Это представляется более верным, чем избрание "на основе" предведения.
Так или иначе, но слово "предведение" (прогнозин) означает нечто большее, чем просто предусмотрительность. Оно подразумевает "иметь расположение" к чему-то или "сосредоточить на чем-то внимание". В греческом тексте в 1:20 то же самое слово относится к Иисусу Христу, "избранному" Отцом прежде создания мира. Отец не просто знал о Своем Сыне наперед, Он имел о Нем совершенное знание. Таким образом Бог избирает всех, на ком Он сосредоточил Свое внимание (по Своей милости, а не по их заслугам).
Слова при освящении от Духа означают, что эти избранные отделены на служение, во осуществление Божией цели избрания. Результатом работы Духа являются послушание и окроплении Кровию Иисуса Христа. Послушание (греческое слово хъюпакоен происходит от хъюпакоуо - "прислушиваться, слушаться") означает быть в подчинении Божиему Слову (Исх. 24:7; Рим. 1:5; 15:18; 16:26).
Тот, кто живет в послушании, постоянно очищается кровью Христа и таким образом постоянно отделяется от мира (сравните 1-Иоан. 1:7,9). Окропление кровью осуществлялось в Ветхозаветной скинии (Лев. 7:14; 14:7,51; 16:14-15; сравните Евр. 9:13; 12:24) и предполагало в качестве результата полное послушание со стороны тех, кто приносил жертвы. Однако, окропление кровью народа в целом было осуществлено только однажды, во время утверждения Моисеева завета (Исх. 24:8).
Этими словами (1-Пет. 1:2) апостол подводит под свое ободряющее письмо богословское основание. Из них следует, что Бог Отец по Своей милости избрал их, а Бог Дух Святой освятил и освящает посредством искупительной крови Иисуса Христа, Бога Сына. (Все три Лица Божества упоминаются в этом стихе.) Таким образом апостол Петр приветствует своих читателей, молитвенно желая им, чтобы они более могли ощущать благодать Божию (харис) и радоваться миру (ейрзнэ - эквивалент еврейскому слову шалом, 5:14) Слова благодать вам и мир да умножится апостол повторяет в 2-Пет. 1:2. Благодатью Божией апостол Петр особенно дорожит и потому 10 раз на протяжении этого послания упоминает о ней (1-Пет. 1:2,10,13; 2:19-20; 3:7; 4:10; 5:5,10,12).
II. Избранные для рождения свыше (1:3 - 2:16)
Апостол Петр продолжает подводить богословское основание под утешение тех, кто переживают гонения. Ударение в следующем тексте ставится на благодати Божией, изливаемой на верующих, которая удостоверяется тем, что Он Сам избрал их ко спасению, и результаты этого уже проявляются в их жизни. Рождение свыше становится источником живой надежды и практической святости, несмотря на переносимые испытания.
А. Рождение самые дает живую надежду 1:3-12)
Славословя Бога, апостол Петр ободряет своих читателей и напоминает им, что рождение свыше дает им новую надежду на будущее нетленное наследство. Наследство это им обеспечено, поскольку до тех пор, пока оно не сделается их достоянием, Сам Бог Своею силою будет защищать верующих от воздействия сил зла. Поэтому христиане должны радоваться и перед лицом испытаний - ведь ими проверяется подлинность их веры и, подвергаясь испытаниям, они таким образом приносят еще большую славу Богу. Однако, надежда, связанная с новым рождением, подогревается не только упованием на будущее наследство и переживанием нынешних благословений; она основана и на написанном Слове Божием.
1. БУДУЩЕЕ НАСЛЕДСТВО (1:3-5)
1-Пет. 1:3 . Размышления на тему Божественной благодати побуждает апостола славить Бога как Первопричину спасения и Источник надежды. Слова Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа употреблены и в Еф. 1:3; сравните 2-Кор. 1:3. Слова по великой Своей милости говорят о незаслуженной любви к грешникам, которые находятся в безнадежном положении. Возродивший нас воскресением свидетельствует о том, что человек ничем не смог бы заслужить такую милость. В греческом тексте здесь стоит слово анагеннэоас, производное от слов "родить вновь".
Оно употребляется в Новом Завете только дважды, и оба раза в этой главе (1-Пет. 1:3,23). Апостол Петр, по-видимому, вспомнил беседу Христа с Находимом (Иоан. 3:1-21). Рождение свыше приносит нам живое упование, основанное на воскресении Иисуса Христа из мертвых. То есть живое упование основано на воскресшем и вечно живущем Иисусе Христе (сравните 1-Пет. 1:21).
Уверенность христиан во Христе настолько тверда и непоколебима, насколько непреложен тот факт, что Христос действительно воскрес из мертвых! Апостол Петр шесть раз употребляет здесь слово "живой" (1:3,23; 2:4-5; 4:5-6). В данном случае это слово означает, что упование или надежда верующих реальны и имеют под собой твердое, непоколебимое основание - в отличие от обманной, пустой и ложной надежды, которую сулит мир.
1-Пет. 1:4 . Итак, уверенность христиан относится к будущему наследству (клэрономиа). То же слово употребляется в Ветхом Завете там, где речь идет о земле, обетованной Израилю (Чис. 26:54,56; 34:2; Иис. Н. 11:23). Она была отдана Израилю во владение как подарок от Бога. Христианское наследство не может быть разрушено враждебными силами; оно не подлежит порче, подобно переспелому плоду, и не может увянуть, подобно цветку.
Апостол Петр ставит здесь подряд три слова, по-гречески начинающихся на одну и ту же букву и имеющих одно и то же окончание, делая это для большей наглядности: это наследство нетленно (афтартос), чисто (амиантос), неувядаемо (амарантос). Оно также верно, как Слово Божие (1-Пет. 1:23, где апостол снова употребляет слово афтартос). Наследство вечной жизни для каждого христианина хранится на небесах Самим Богом, так что в конечном счете оно наверняка станет достоянием тех, кому предназначено (сравните Гал. 5:5).
1-Пет. 1:5 . Но не только наследство, а и сами наследники хранимы Богом и Его силою. Греческое фруруменус, переведенное словом "соблюдаемых", означает "защищаемых" - в том смысле, как, например, гарнизон в крепости защищает жителей ее (апостол Павел употребляет то же самое слово в Фил. 4:7). Может ли быть большая надежда для тех, кто подвергается преследованиям, чем та, что основана на спасительном знании: сила Господня, действующая внутри них, хранит их и сохранит для того, чтобы в присутствии Самого Бога они могли получить уготованное им наследие вечной жизни.
Верующие уже теперь имеют спасение, но всю его полноту и значение они ощутят тогда, когда Христос возвратится на землю, и тогда-то "в последнее время", спасение полностью "откроется" им. Этот заключительный этап спасения душ (1-Пет. 1:9) совершится, повторим, "в явление Христа". Апостол Петр дважды повторяет эти слова - "явление Иисуса Христа" (стих 7 и 13).
2. НЫНЕШНЯЯ РАДОСТЬ (1:6-9)
1-Пет. 1:6 . Живая надежда приносит радость. Слова "о сем" относятся, по-видимому, ко всему тому, что сказано в стихах 3-4. Апостол призывает читателей применить свое знание на практике. Их откликом на великие богословские истины, открытые им до известной степени, должна стать великая радость. Знание само по себе еще не приносит радости, не дает чувства безопасности и не освобождает от страха перед гонениями. Но всемогущая сила Божия нуждается в сочетании с человеческой ответственностью. Христиане ответственны за то, чтобы отвечать Богу верою.
Только верою воплощается здравое учение в здравую и разумную жизнь. Содержание богословской теории воспринимается верою, и вера производит соответствующее поведение. Чувству безопасности, возникающему на основании богословских знаний, вера придает характер живого, реального ощущения. Апостол Иоанн пишет: "и сия победа, победившая мир, вера наша" (1-Иоан. 5:4). Именно такая вера или живое упование делает верующего способным радоваться и тогда, когда он скорбит под гнетом различных искушений (испытаний). Петр подчеркивает, что радость христианина не зависит от его обстоятельств.
Иаков прибегает к тем же двум греческим словам - поикилоис пеирасмоис ("от различных искушений"). Искушения (в значении испытаний) сами по себе могут быть причиною для радости (Иак. 1:2). Хотя они порой несут печаль, они не в состоянии заглушить той глубокой радости, которая основана на живой надежде на Иисуса Христа.
1-Пет. 1:7 . Под этими различными испытаниями скорее всего понимаются гонения за Христа, а не обычные жизненные трудности, и приводят они к двум результатам: а) очищают нашу веру подобно тому, как огонь очищает золото, и б) подтверждают истинность нашей веры. Гонения углубляют и укрепляют веру и дают ей возможность проявить себя в реальной жизни. Греческое слово докимацомену означает: "испытание с целью одобрения" (сравните стих 7 с Иак. 1:3 и 1:12). Петр сравнивает процесс очищения веры с процессом очищения золота.
Но только вера намного драгоценнее золота. Даже очищенное золото со временем подвергается коррозии (1-Пет. 1:18, Иак. 5:3). Поэтому с точки зрения вечности оно ценности не представляет. А вот ценой веры "обретается" наследство, действительно нетленное. Истинная вера не только представляет ценность для того, кто имеет ее, - она также приносит славу, хвалу и честь Тому, Чье имя носят христиане и Кто назовет их Своими, когда вернется на землю (сравните 5:1). Греческое апокалюпсей, переведенное здесь как "явление" - это то слово, от которого происходит известное слово "апокалипсис" (сравните 1:5,12 и смотри комментарии на стих 13).
1-Пет. 1:8 . Здесь говорится о наивысшей радости, которая дается верою. Бог завершил дело спасения через Иисуса Христа, Своего Сына. Так что вера христианина основана не на отвлеченном знании, а на личности Иисуса Христа. Сердце апостола переполняется теплотой, когда он говорит о вере и любви ко Христу и о любви к Нему со стороны тех, кому не довелось, подобно ему самому, видеть Иисуса во плоти, ходившим по нашей земле.
Возможно, апостол вспомнил при этом слова Христа: "блаженны не видевшие и уверовавшие" (Иоан. 20:29). Христиане, не видящие Его своими физическими глазами так, как видел Его Петр, тем не менее, верят в Него и любят Его и тоже преисполнены радостью неизреченною и преславною. К греческому слову агаллиасте, переведенному как "радуйтесь", апостол Петр прибегает также в 1:6 и 4:13.
1-Пет. 1:9 . У верующих есть основания радоваться, поскольку они получают (комицоменой -получить, достигнуть) то, что им обещано - личное спасение, или, другими словами, то, во что они верили. Для тех, кто верит в Иисуса Христа и любит Его, спасение совершено в прошлом ("возродивший нас воскресением Иисуса Христа", стих 3), оно продолжает совершаться в настоящем ("силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению", стих 5), и совершится в будущем ("к наследству… готовому открыться в последнее время", стихи 4-5); оно, это спасение, является также целью веры ("Достигая… верою вашею спасения душ", стих 9). Но поскольку день последний приближается с каждым днем, это и означает, что верующие получают спасение теперь. Все это, несмотря на гонения, которые только углубляют их веру, несомненно приносит "радость неизреченную и преславную" (стих 8).
I. ОТКРОВЕНИЕ, ДАННОЕ В ПРОШЛОМ (1:10-12)
1-Пет. 1:10-12 . Живая надежда в рожденном свыше дается ему не только сознанием того, что ожидает его в будущем и опытом его в настоящем, но и верою его в написанное Слово Божие (стих 11). Апостол Петр подчеркивал, что наша вера основана не на том, что люди писали, а на Слове Божием. Желая понять все, что касается спасения (сравните стихи 5,9), пророки тщательно изучали Писания - исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов.
Пророки жаждали прихода этого периода благодати и связанного с ним спасения и пытались узнать время "Христовых страданий и последующей за ними славы". Они размышляли о том, как это может быть, чтобы прославленный Мессия претерпел страдания. Здесь вновь отражается учение Самого Иисуса Христа (Матф. 13:17).
В 1-Пет. 1:10-12 дана практическая иллюстрация к доктрине Богодухновенности Священного Писания, о чем апостол прямо говорит в 2-Пет. 1:20-21. Сами пророки не понимали всего того, что говорил через них Дух Святой. Ибо именно Дух предсказал Христовы страдания (Ис. 53 гл.) и последующую за ними славу (Ис. 11 гл.). Напоминание о том, что за страданиями Христа последует слава Его, должно было утешить и поддержать читателей послания. Утешению и поддержке их служило также сознание, что и они, претерпев страдания, тоже будут увенчаны славой (1-Пет. 5:10).
Петр продолжает ободрять тех, к кому обращается (1:12), говоря, что пророки сознавали, что пишут они не для себя, а для людей, которые будут жить после них и которым предстоит, услышав Евангелие, благовествуемое Духом Святым (сравните с выражением Дух Христов в 11 стих), последовать за Христом. На последней стадии спасения верующих ожидает слава, а не страдания. Об этом же говорит и автор послания к Евреям (Евр. 1:14; 2:3). Своей неподдельностью христианская живая надежда вызывает благоговение и удивление небожителей; равно и пророков и ангелов глубоко занимает это спасение, даваемое через благодать (стих 10).
Б. Рождение свыше дает святость (1:13 - 2:10)
Живая надежда верующих, основанная на факте их рождения свыше, должна вести их к святому образу жизни. Избранные к тому, чтобы получить это второе рождение, призваны к святости. Апостол Петр зовет своих читателей внять призыву к послушанию, настроив разум свой на новый лад - препоясавши чресла ума вашего. Цена, уплаченная за искупление верующего, обязывает к почтительности и послушанию. Под послушанием понимается очищение себя и святой образ жизни - они-то и являются "духовными жертвами", приносимыми "царственным священством".
1. ПОДГОТОВКА (1:13-16)
1-Пет. 1:13-16 . Здесь Петр дает пять ясно выраженных советов: препоясавши чресла ума вашего (это значит, настройте ум ваш на необходимость действовать; "препоясывались" или "препоясывали чресла", собираясь в путь); бодрствуйте (по другим переводам - "умейте владеть собой"); уповайте на подаваемую вам благодать… не сообразуйтесь с прежними похотями (т. е. не поступайте по злым побуждениям вашим, как поступали вы, когда были духовно невежественны); будьте святы.
В греческом тексте первое, второе и четвертое поучения выражены причастными оборотами (и в этом отношении русский текст близок к оригиналу) при двух главных призывах - "уповайте на… благодать", т. е. "имейте на нее надежду" и "будьте святы". Причастия подчеркивают и уточняют основные призывы (т. е. имейте надежду - при разуме, настроенном на действие, и умении быть начеку ("бодрствуя"); и будьте святы, не поддаваясь злым побуждениям).
1) "Препояшьте чресла ума вашего" (стих 13). Послушание - это сознательный волевой акт. Христиане, попав в конфликтную ситуацию, нуждаются в решительном настрое ума, как сказали бы теперь, - "на волну святости", другими словами, они должны быть готовы к совершению упомянутого волевого действия.
2) "бодрствуйте" (стих 13, сравните 4:7; 5:8; 1-Фес. 5:6,8). Греческое слово нэфонтес, переведенное как "бодрствуя", происходит от глагола "нэфо" - "быть трезвым". В Новом Завете употребляется только в переносном смысле, означая свободу от любой формы умственного и духовного опьянения, т. е. от потери в чем бы то ни было чувства меры (сравните с "умейте владеть собой" в англ. переводе). Иначе говоря, верующие должны руководствоваться не столько внешними обстоятельствами, сколько "внутренним голосом", присущими им убеждениями.
3) "Совершенно уповайте" (1-Пет. 1:13). Святая жизнь требует решимости. Надежда верующего должна быть совершенной, т. е. полной, неизменной, безоговорочной (употребленное здесь греческое слово телейос это как раз и означает); основывать ее следует на подаваемой вам благодати (сравните стих 10) в явлении Иисуса Христа (в греческом тексте буквально - "в откровении" (апокалипсей); сравните с тем же словосочетанием в стихе 4). Четвертый раз, хоть и разными словами, говорит здесь Петр о предстоящем возвращении Спасителя и о связанной с Его возвращением завершающей стадии спасения (стих 5, 7,9,13).
Три наставления, изложенные в стихе 13, предполагают усердную подготовку разума и души - с тем, чтобы христианам не сообразовываться (то же греческое слово сисхематизоменой - встречаем и в Рим. 12:2) с прежними похотями (1-Пет. 1:14), которым они предавались в прошлой своей греховной жизни (сравните Еф. 2:3), когда не знали Бога (сравните Еф. 4:18). Но как послушным детям (буквально здесь "дети послушания"), им следовало заново формировать свои характеры, чтобы быть святыми во всех своих поступках (1-Пет. 1:15).
Их образ жизни должен теперь отражать не прежнее их состояние, когда они еще не знали Бога, Но - святую (хагиой) природу их небесного Отца, Который родил их свыше и назвал Своими (сравните с "Призвавшим нас" во 2-Пет. 1:3). Не требования Закона подразумеваются в 1-Пет. 1:15-16, но об ответственности верующих за состояние их душ и повседневное поведение напоминается в них.
И хотя абсолютной святости достигнуть в этой жизни невозможно, жизнь христианина во всех ее проявлениях должна последовательно и все более полно согласовываться с совершенной и святой волей Божией. Цитата, приводимая в 16 стихе, была хорошо знакома всем, кто знал Ветхий Завет (Лев. 11:44-45; 19:2; 20:7).
2. ЦЕНА (1:17-21)
Высокая цена их спасения - драгоценная кровь возлюбленного Сына Божиего - обязывает верующих жить в благоговейном страхе перед Богом. Богобоязненная вера и ведет к святой жизни; в свете этой веры невозможно легко относиться к тому, что приобретено столь огромной ценой.
1-Пет. 1:17-19 . Послушные дети знают святую природу и справедливый характер Того, Кто нелицеприятно судит. Право называть Бога своим Отцом тоже обязывает их повиноваться Ему в благоговейном страхе. Отсюда и жить они должны в соответствии с Его абсолютными критериями и нормами, и в этом мире, с его неустойчивой, меняющейся этикой, - быть "странниками" (сравните 2:11).
О страхе перед Богом (речь тут идет именно о благоговейном страхе) свидетельствуют чуткая совесть, настороженность по отношению к возможным искушениям и стремление избегать всего, что может огорчить Бога. Послушные дети должны быть чуждыми своей прежней суетной жизни (стих 14), переданной им от отцов, поскольку они искуплены (по-гречески элитротете, от слова литроо - "платить выкуп") драгоценную кровью Христа (2:4,6-7 и 1:2).
Искуплены от греха, ценой не серебра или золота, которые тленны (сравните стих 7), а тем, что цены не имеет, - кровью непорочного и совершенного Агнца. Подобно тому, как агнцы, которых приносили в жертву в ветхозаветные времена, не должны были иметь "ни пятна ни порока", непорочен был и Христос - Тот единственный, о Котором сказано, что Он - Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Иоан. 1:29, сравните Евр. 9:14).
1-Пет. 1:20-21 . Искупление от греха было, предусмотрено еще прежде создания мира, но людям (и ради них) оно было явлено в воплотившемся Иисусе Христе в последние временах, (здесь речь идет о нынешних временах, начало которым положено Первым пришествием Христа, - в отличие от выражения "в последнее время" в стихе 5, под которым понимается Век грядущий; начало ему положит Второе пришествие Господа).
Это благодаря Христу, Которого Отец воскресил (сравните стих 3) и прославил через вознесение Его (Иоан. 17:5; Евр. 1:3), могут люди прийти к познанию Бога и к вере в Него. В результате осуществления извечного Божиего плана спасения и уплаты Им безмерной цены за грех сделалось это возможным - чтобы мы имели веру и упование на Бога (употребление слова "вера" в 1-Пет. 1:5,7,9 и слов "упование", "уповайте" - в 1:3,13).
3. ОЧИЩЕНИЕ (1:22 - 2:3)
Святой образ жизни, который должен стать результатом нового рождения, проявляется (через послушание) в трех вещах; повиновение истине очищает души и пробуждает в них: а) "нелицемерное братолюбие" (1:22-25), б) раскаяние в грехах (2:1), в) желание возрастать духовно (2:2).
1-Пет. 1:22 . Святое "хождение" требует очищения. Чистая жизнь как раз и является результатом послушания истине (сравните стих 26). "Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему" (Пс. 118:9). Как в испытаниях очищается и закаляется вера (стих 7), так послушание слову Божиему очищает характер человека. При этом он испытывает радость - радость послушания - тот, кто очищает себя, живя по слову Божиему. Перемена в жизни доказывается переменою в отношении к другим детям Божиим.
Тот, кто ведет чистую жизнь, обретает способность и чисто, искренне ("от чистого сердца") любить других людей, разделяющих его веру. Нелицемерно любить - значит любить глубоко (греческое слово, которое просходит от агапе, подразумевающего бескорыстную любовь, стремящуюся более давать, чем брать); при такой, любви не может быть места злым мыслям и чувствам по отношению к братьям и сестрам во Христе, ибо она проистекает из нового, измененного сердца. Это действительно нелицемерная и "усердная", как сказано о ней в 1-Пет. 4:8, любовь.
1-Пет. 1:23-25 . В стихе 23 апостол Петр напоминает своим читателям о том, что они - возрождены (сравните со стих 3): Как возрожденные не от тленного семени… Именно вследствие этого сверхъестественного акта обрели они способность повиноваться истине, очищать себя от всякой нечистоты и любить братьев. Эта перемена в их жизни необратима, поскольку совершило его слово Божие, которое нетленно (употребленное здесь греческое слово встречаем и в 4 стихе - применительно к "наследству верующих"), "живо и пребывает во век".
Свой - призыв, высказанный в 22 стихе, апостол подкрепляет (1-Пет. 1:24-25) цитатой из пророка Исаии (40:6-8). Все, что рождено от тленного семени, чахнет и погибает, а Слово Божие пребывает вовек. О вечном - живом этом слове и проповедовал Петр (смотрите стих 12). И на слушателей его не могла не производить впечатления безмерная сила Слова, преобразующего жизнь (см: об этом в 2:1-3).
Первое послание Петра относится к тем новозаветным посланиям, которые получили название соборных посланий. Было предложено два объяснения такого названия.
1. Высказывалось предположение, что эти послания были адресованы всей Церкви вообще, в отличие от посланий Павла, адресованных отдельным церквам. Но это не совсем так. Послание Иакова адресовано определенной, хотя и очень разбросанной общине: двенадцати коленам, находящимся в рассеянии (Иак. 1,1). Не нужно доказывать, что Второе и Третье послания Иоанна адресованы конкретным общинам, и, хотя в Первом послании Иоанна не указан конкретный адресат, оно, совершенно определенно, написано с учетом потребностей конкретной общины и грозящих ей опасностей. Первое послание Петра само по себе адресовано пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии (1Пет. 1,1). Хотя эти послания и обращены к более широкому кругу, чем послания Павла, но их в то же время объединяет определенное место назначения.
2. Согласно другому объяснению, эти послания получили название соборных потому, что они были приняты как Священное Писание всей Церковью, в отличие от той массы посланий, которые имели лишь местное и временное значение, но не признавались как Священное Писание. В период написания рассматриваемых посланий в Церкви имело место нечто вроде бума в написании посланий. Многие из написанных тогда посланий сохранились до наших дней -такие как послание епископа римского Климента коринфянам, послание Варнавы, послания епископа Антиохийского Игнатия и послания Поликарпа. Все они пользовались большим уважением в церквах, которым они были написаны, но никогда не признавались всей Церковью того времени как соборные послания. Соборные же послания постепенно заняли место в Священном Писании и были приняты всей Церковью. Отсюда они и получили свое название.
Прекрасное послание
Пожалуй верно, что из всех соборных посланий более всех известно именно Первое послание Петра: его любят больше всех и читают больше всего. Его очарование никогда не подвергалось сомнению.
Английский богослов Моффат писал о нем так: «Очаровательный пастырский дух светится в любом переводе греческого текста». «Нежное, любящее, скромное, простое», — эти четыре определения дал Ицхак Уалтон посланиям Иакова, Иоанна и Петра, но в первую очередь они относятся к Первому посланию Петра. Оно дышит пастырской любовью и сердечным стремлением помочь людям, которые подвергались гонениям и которых впереди ожидало еще много худшее. «Лейтмотив послания, — сказал Моффат, — призыв сохранять стойкость в поведении и простоту характера».
Первое послание Петра называли также самым трогательным произведением эпохи гонений на христиан. И до сего дня оно является одним из самых доступных и понятных в Новом Завете и не утратило своей обаятельности.
Сомнения нашего времени
До недавнего времени мало кто высказывал сомнения относительно подлинности Первого послания Петра. Французский писатель Жозеф Ренан, автор «Истории происхождения христианства», несомненно не консервативный критик, так писал о нем: «Первое послание Петра — одно из самых древних в Новом Завете произведений, которое почти единодушно признается подлинным». Но в последнее время авторство Петра стали широко оспаривать. В опубликованном в 1947 г. комментарии Ф. У. Бир идет даже дальше: «Не может быть сомнения в том, что Петр — это псевдоним». Другими словами, Ф. У. Бир нисколько не сомневается в том, что это послание написал под именем Петра кто-то другой. Мы честно рассмотрим эту точку зрения, но сперва изложим традиционную точку зрения, которую мы сами принимаем без всяких колебаний, а именно, что Первое послание Петра было написано из Рима самим апостолом Петром около 67 г., в эпоху непосредственно после первых гонений на христиан при императоре Нероне, и адресовано христианам, жившим в указанных в нем провинциях Малой Азии. Что говорит в пользу этой ранней датировки и, следовательно, в пользу того, что автором его был Петр?
Второе пришествие
Из самого послания видно, что одна из главных заключенных в нем мыслей — это мысль о Втором Пришествии Христа. Хранить христиан ко спасению, которое откроется в последнее время (1,5). Те, кто сохранит свою веру, будут избавлены от грядущего судного дня (1,7). Христиане должны уповать на благодать, которая будет дана им в явлении Христа (1,13); день посещения Бога не за горами (2,12), близок всему конец (4, 7). Те, кто участвует в Христовых страданиях, будут и радоваться с Ним в явлении славы Его (4,13); ибо время начаться суду с дома Божия (4,17). Автор послания уверен в том, что он — соучастник в славе, которая должна открыться (5,1), а когда явится Пастыреначальник, верные христиане получат венец славы (5,4).
Идея о Втором Пришествии доминирует в послании с самого начала и до конца как побуждающий мотив быть твердым в вере, доблестно стойкими в грядущих страданиях и соблюдать нормы христианской жизни.
Было бы несправедливо сказать, что мысль о Втором Пришествии когда-либо вообще исчезла из христианской веры, но она переставала доминировать в ней по мере того, как шли годы, а Христос не возвращался. Так, например, примечательно, что в Послании к Ефесянам, одном из последних посланий Павла, о нем вовсе не упоминается. На основании этого разумно считать, что Первое послание Петра относится к раннему периоду, к эпохе, когда христиане еще жили ожиданием возвращения их Господа в любой момент.
Простота организации
Совершенно очевидно, что Первое послание Петра было написано в эпоху, когда церковная организация была очень проста. В нем не упоминаются ни епископы, которые начинают упоминаться в Пастырских посланиях и становятся особенно известными в посланиях епископа Антиохийского Игнатия в первой половине второго столетия. Из церковных руководителей упоминаются только пастыри. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь» (5,1). С учетом этого тоже разумно предположить, что Первое послание Петра относится к ранней эпохе.
Богословие в ранней церкви
Примечательней же всего тот факт, что богословский аспект Первого послания Петра соответствует богословию ранней Церкви. В тщательно проведенном исследовании И. Т. Селвин неопровержимо доказал, что богословские идеи, заложенные в Первом послании Петра полностью совпадают с теми идеями, которые получили отражение в записанной проповеди Петра в первых главах книги Деяний святых Апостолов.
В ранней Церкви проповедование основывалось на пяти главных идеях. Их сформулировал англичанин Додд, чем внес значительный вклад в изучение Нового Завета. На этих пяти идеях строились все службы в ранней Церкви, которые записаны в книге Деяний святых Апостолов; эти идеи лежат также в основе мировоззрения всех авторов Нового Завета. Краткое изложение этих фундаментальных идей получило название керугма, что значит извещение или официальное объявление, сделанное вестником.
Это те фундаментальные идеи, которые Церковь провозглашала в свои первые дни. Если мы рассмотрим их в отдельности, одну за другой, и установим в каждом конкретном случае, во-первых, какое отражение они получили в ранних главах книги Деяний святых Апостолов и, во-вторых, в Первом послании Петра, то сделаем важное открытие: основные идеи богослужений и проповедей в молодой Церкви и богословская часть Первого послания Петра совершенно одинаковы. Мы, конечно, не станем утверждать, что проповеди в книге Деяний святых Апостолов представляют собой дословную запись произнесенных тогда проповедей, но мы считаем, что в них правильно передана сущность вести первых проповедников.
1. День исполнения наступает, век Мессии наступил. Это последнее слово Божие. Устанавливается новый порядок в новом братстве (Деян. 2,14-16; 3,12-26; 4,8-12; 10,34-43; 1Пет. 1,3.10-12; 4,7).
2. Новый век наступил через жизнь, смерть и воскресения Иисуса Христа, которые есть прямое исполнение ветхозаветных пророчеств и, тем самым, следствие определенного плана и предвидения Божия (Деян. 2,20-31; 3,13.14; 10,43; 1Пет. 1,20.21).
3. Через Воскресение Иисус был вознесен одесную Бога и Он — мессианская глава нового Израиля (Деян. 2,22-26; 3,13; 4,11; 5,30.31; 10,39-42; 1Пет. 1,21; 2,7.24; 3,22).
4. Цепь мессианских событий вскоре достигнет своего завершения, когда Иисус вернется в славе и будет суд живых и мертвых (Деян. 3,19-23; 10,42; 1Пет. 1, 5. 7.13; 4, 5.13.17.18; 5,1.4).
5. Все это служит основанием для того, чтобы призвать людей к раскаянию и предложить им прощение и Святое Духа и обетование жизни вечной (Деян. 2, 38.39; 3,19; 5,31; 10,43; 1Пет. 1,13-25; 2,1-3; 4,1-5).
На этих пяти пунктах зиждется здание проповедования в раннехристианской Церкви, как свидетельствуют нам записи ранних проповедей Петра в первых главах книги Деяний святых Апостолов. Эти же мысли доминируют в Первом послании Петра. Их аналогия настолько соответствует, что мы совершенно ясно узнаем один почерк и один дух.
Цитаты у отцов церкви
Можно привести еще одно доказательство в пользу ранней датировки Первого послания Петра: отцы Церкви и проповедники начинают цитировать его очень рано. Впервые Первое послание Петра цитируют с указанием названия Ириней, впоследствии епископ Лионский и Вьенский, живший с 130 до 202 года. Он дважды цитирует 1Пет. 1,8, «Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною», и один раз 1Пет. 2,16 как указание не употреблять свободу для прикрытия зла. Но еще и до того отцы Церкви цитировали Первое послание Петра без указания его имени. Климент Римский писал где-то в 95 г. о «драгоценной крови Христа»; эта необычная фраза вполне могла иметь своим источником заявление Петра о том, что мы искуплены драгоценною кровию Христа (1,19). Поликарп, епископ Смирнский и ученик Иоанна, умерший мученической смертью в 155 г. постоянно цитирует Петра, не называя, однако, его по имени. Приведем три отрывка, чтобы показать, как точно он передает слова Петра.
«Для чего, перепоясавши чресла, служите Богу в страхе… веруя в Него, Который воскресил нашего Господа Иисуса Христа из мертвых и дал ему славу» (Поликарп, «Филипийцам» 2,1).
«Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего… уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу» (1Пет. 1,13.21).
«Иисус Христос, Который обнажил грехи наши в Своем теле на древе, Который не согрешил и не было лести в устах Его» (Поликарп 8,1).
«Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1Пет. 2,22.24).
«Говорите безупречно среди язычников» (Поликарп 10,2).
«И провождать добродетельную жизнь между язычниками» (1Пет. 2,12).
Нет никакого сомнения в том, что Поликарп цитирует Петра, хотя и не называет его по имени. Ведь для того, чтобы книга завоевала такой авторитет и известность, что ее цитируют почти бессознательно, чтобы ее язык слился с языком Церкви, для этого нужно время. Это опять же указывает на раннее происхождение Первого послания Петра.
Превосходный греческий
Исследователи Нового Завета единодушны в восхвалении греческого, которым оно написано. Ф. У. Бир пишет: «Это послание, вне всякого сомнения -произведение образованного человека, писателя, сведущего в тонкостях риторики, владеющего богатым и научным словарным запасом; он стилист, и не просто средней руки, его греческий язык принадлежит к лучшим в Новом Завете образцам: мягкий и более литературный, чем греческий язык высокообразованного Павла». Моффат говорит о «гибкости языка» этого послания и о «любви к метафорам» его автора. Другой ученый говорит, что Первое послание Петра не имеет себе равных в Новом Завете по «великолепию и выдержанности ритма». Еще один ученый сравнивал определенные места в Первом послании Петра с произведениями греческого риторика Фукидида. Язык Первого послания Петра сравнивали по нежности с языком греческого драматурга Еврипида и с языком Эсхила по способности создавать новые сложные слова. Трудно, если даже вовсе невозможно, представить себе, чтобы Петр писал таким языком.
Послание само дает ключ к решению этой проблемы. В кратком завершающем отрывке Петр сам говорит: «Сие кратко написал я вам чрез Силуана» (1Пет. 5,12). Через Силуана — диа Силуану — необычное выражение. Оно значит, что Силуан был доверенным лицом Петра при написании этого письма: это значит, что он был больше, нежели просто стенографистом Петра.
Рассмотрим это с двух точек зрения. Во-первых, спросим себя, что мы знаем о Силуане. (Более полное обоснование приведено в комментарии к 1Пет.5,12). Наиболее вероятно, что это то же лицо, что и Силуан в посланиях Павла и Сила в книге Деяний святых Апостолов, так как Сила — это сокращенная и более обычная форма от Силуана. Исследование этих отрывков показывает, что Сила был не простым человеком, а ведущей фигурой в жизни и совете молодой Церкви.
Он был пророком (Деян. 15,32); одним из начальствующих между братьями на совете в Иерусалиме и одним из двух избранных для вручения совета церкви в Антиохии (Деян. 15,22.27). Он был избран Павлом для второго миссионерского путешествия и сопровождал Павла как в Филиппах, так и Коринфе (Деян. 15,37-40; 16,19.25.29; 18,5; 2 Кор. 1,19). Он фигурирует в приветствиях и в Первом и Втором посланиях апостола Павла к Фессалоникийцам (1 Фес. 1, 1); 2 Фес. 1,1); он был римским гражданином (Деян. 16,37).
Таким образом, Силуан был заметной фигурой в раннехристианской Церкви. Он был скорее не помощником, а сотрудником Павла; а коль скоро он был римским гражданином, то по крайней мере возможно, что он был образованным и культурным человеком, что, конечно, было недоступно Петру.
А теперь посмотрим на это дело с другой стороны. Когда Петр, как миссионер, хорошо говоривший на языке своих слушателей и читателей, но не очень хорошо писавший, посылал своим собратьям послания, он имел две возможности: написать его так, как он это мог, а потом дать его человеку, который хорошо владеет языком, чтобы исправить возможные ошибки и пригладить стиль; или же, если у него есть сотрудник, отлично владеющий языком и которому он мог полностью доверять, изложить ему суть своего послания — все, что он хочет поведать своим читателям, с тем, чтобы коллега изложил это в письменной форме.
Мы можем вполне представить себе, что именно такова была роль Силуана при написании Первого послания Петра: он изложил своими словами все сказанное Петром, после чего Петр прочитал изложенное и прибавил от себя абзац.
Мысли в послании — Петра, а стиль — Силуана и, таким образом, хотя оно и написано прекрасным греческим языком, нет необходимости утверждать, что автором его не является сам апостол Петр.
Адресаты послания
Послание было написано изгнанниками (христианин всегда лишь временный житель на земле), рассеянным по побережью Черного моря; в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии.
Почти каждое из этих слов имело двойное значение: так назывались сперва древние царства, а потом — римские провинции на месте древних царств. Территории древних царств и римских провинций не всегда точно совпадали. Так, не было римской провинции Понт, а бывшего царства Митридата, часть которого вошла в римскую провинцию Вифинию, а часть в Галатию. Галатия когда-то была галльским царством, которое охватывало лишь три города: Анкира, Песинус и Тавиум, но римляне расширили ее до большого административного района, включавшего части Фригии, Писидии и Ликионии. Царство Каппадокия практически в своих прежних границах стало римской провинцией в 17 г. после Р. Х. Асией называлось царство, которое его последний царь Атталус III в 133 г. до Р. Х. завещал в качестве дара Риму. Оно занимало центральную часть полуострова Малая Азия и граничило на севере с Вифинией, на юге с Ликидией, и на востоке с Фригией и Галатией.
Остается неясным, почему выбраны были именно эти районы, но одно ясно — они охватывали обширную область с очень большим населением, и тот факт, что все они перечислены — это одно из важных доказательств огромной миссионерской работы, проводившейся молодой Церковью помимо миссионерской деятельности Павла.
Все эти районы расположены на северо-востоке полуострова Малая Азия. Почему они названы в этом порядке, и почему они названы вместе — остается для нас загадкой. Но уже один взгляд на карту показывает, что человек, везший это послание — а это вполне мог быть Силуан, — приплыв из Италии и высадившись в порту Синопа на северо-восточным побережье Малой Азии, мог последовательно объехать эти страны в указанном порядке и снова вернуться в порт Синопа.
Из самого послания ясно, что адресовано оно было, в основном, язычникам. В послании вообще не затрагиваются проблемы Закона, что всегда имеет место, если среди адресатов есть иудеи.
Те, кому адресовано послание, поступали по воле языческой (1,14; 4,3.4); это больше подходит язычникам, нежели иудеям. Прежде они не были народом, были непомилованные, а ныне — народ Божий (2,9. 10). Имя, которым Петр называет себя, тоже указывает на то, что послание было адресовано язычникам, потому что Петр — греческое имя. Павел называет его Кифой (1 Кор. 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; Гал. 1,18; 2,9.11.14); среди иудеев он был известен как Симон (Деян. 15,14); этим же именем он называет себя во Втором послании Петра (1,1). Коль скоро он употребляет здесь свое греческое имя, он писал грекам.
Обстоятельства, связанные с написанием послания
Это послание было написано в эпоху, когда христиане начали подвергаться гонениям. Христианам приходится терпеть от различных искушений (1,6); на них злословят, как на злодеев (3,16); им посылается для испытания огненное искушение (4,12); в страданиях они должны предавать себя Богу (4,19); они страдают за правду (3,14); такие же страдания терпят их братья во всем мире (5,9). За этим посланием стоят испытания, кампания злословия и страданий ради Христа. Можем ли мы определить, когда это было?
Было время, когда христианам не приходилось особенно опасаться преследований со стороны римского правительства. Из книги Деяний святых Апостолов видно, что Павла неоднократно спасают от ярости иудеев и язычников римские чиновники, солдаты и официальные лица. Как выразился английский историк Гиббон, чиновники в языческих странах оказывались самой надежной защитой от ярости тех, кто сплотился вокруг синагоги. Дело в том, что в самом начале римское правительство не видело различия между христианами и иудеями. В пределах римской империи иудаизм был так называемой религией лицита — разрешенной религией, — и иудеи имели полную свободу поклоняться Богу по своим обычаям. Нельзя сказать, что иудеи не пытались просветить римлян в этом вопросе; они это делали, например, в Коринфе (Деян. 18,12-17). Но одно время римляне видели в христианах лишь одну из сект иудаизма и потому не досаждали им.
Все изменилось в эпоху правления императора Нерона, и мы можем почти детально проследить все. 19 июля 64 г. разразился великий пожар Рима. Риму, городу с узкими улочками и высокими деревянными строениями, грозила опасность оказаться совершенно стертым с лица земли; огонь бушевал три дня и три ночи, был погашен и потом разгорелся снова с удвоенной силой. Население Рима нисколько не сомневалось в том, кто несет ответственность за пожар и возлагало вину за все на императора. Император Нерон был одержим страстью строить и потому римляне считали, что он умышленно предпринял шаги к уничтожению города, чтобы построить его заново. Вину Нерона достоверно установить невозможно, но вполне достоверно, что он наблюдал за бушевавшим огнем с Меценатовой башни и выражал свое восхищение великолепием пламени. Говорили, что людям, пытавшимся гасить огонь, умышленно мешали и что видели людей, зажигавших огонь снова, когда он был готов угаснуть. Римляне были подавлены. Исчезли древние межевые знаки и усыпальницы предков, погибли храм Луны, Ара Максима, большой жертвенник, храм Юпитера, капище Весты, сами их домашние боги; все были бездомны и «братьями по несчастью».
Люди были кране возмущены, и Нерону пришлось искать козла отпущения, чтобы отвести подозрение от себя. Этим козлом отпущения сделали христиан. Римский историк Тацит так передает это в «Анналах» 15,44:
Ни человеческая помощь в виде даров императора, ни попытки умиротворить богов не могли заглушить зловещие слухи о том, что пожар был зажжен по приказы Нерона. И поэтому, чтобы рассеять слухи, он возложил вина на группу людей, которым простой народ дал имя «христиане», и которых ненавидели за совершаемые ими мерзости. Основатель этой секты, некто по имени Христос был казнен Понтием Пилатом во время царствования Тиберия, и ужасное суеверие, хотя и было на какое-то время подавлено, разрослось вновь не только в Иудее, где эта чума зародилась, но даже в Риме, где собирается и практикуется все постыдное и ужасное.
Совершенно очевидно, что у Тацита не было сомнений в том, что христиане неповинны в пожаре Рима и что Нерон выбрал их просто в качестве козла отпущения.
Как могло случиться, что Нерон выбрал именно христиан и почему было вообще возможно предположить, что они могут быть повинны в пожаре Рима? На это можно дать два ответа.
1. Христиане уже были жертвою клеветы.
а) В народе их связывали с иудеями. Антисемитизм — вещь не новая, и поэтому римской толпе было нетрудно связать с христианами, т. е. иудеями, какое угодно преступление.
б) Тайная вечеря проводилась в тайне, по крайне мере в определенном смысле: на нее имели доступ только члены Церкви. А некоторые связанные с нею выражения, как-то: «вкушать чье-то тело» и «пить чью-то кровь» давали достаточно пищи злословию язычников; этого было достаточно, чтобы пошли слухи о том, будто христиане — людоеды. Временами слухи разрастались, говорили, что христиане убили и съели язычника или новорожденного. Христиане приветствовали друг друга поцелуем любви (1Пет. 5,14); собрание христиан носило название агапе — пир любви; этого было достаточно, чтобы пошли слухи о том, что собрания христиан — это порочные оргии.
в) Христиан всегда обвиняли в том, что они «разрушали семейные связи». В этом была определенная доля истины, потому что христианство действительно становилось мечом, раскалывавшим семьи, когда одни члены семьи становились христианами, а другие нет. Религия, раскалывавшая семьи на враждебные лагеря, неизбежно должна стать непопулярной.
г) Христиане говорили о наступлении такого дня, когда мир погибнет в пламени. Должно быть язычники слышали многих христианских проповедников, говоривших о гибели в огне всего сущего (Деян. 2, 19.20). Нетрудно было возложить вину за пожар на людей, говоривших такие вещи. Было и много другого, что можно было облыжно обратить против христиан, если кто-либо хотел злостно отомстить им.
2. История повествует, что много благородных женщин Рима обратилось к иудаизму. Иудеи же, не колеблясь, использовали таких женщин, натравливая их супругов на христиан. Прекрасный пример такого поведения мы видим в том, что произошло с Павлом и его спутниками в Антиохии Писидийской. Именно через таких женщин действовали тогда иудеи против Павла (Деян. 13,50). Двое из дворцовых приближенных императора Нерона были иудейскими прозелитами: Алетур — любимый артист Нерона, и Попея — его вторая жена. Вполне возможно, что иудеи оказали через них влияние на Нерона с тем, чтобы он предпринял действия против христиан.
Как бы там ни было, вину за пожар возложили на христиан и на них начались дикие гонения. Огромными массами христиане погибали ужасной садистской смертью. По приказам Нерона христиан обмазывали смолой и зажигали, превращая их в живые факелы для освещения его садов; их зашивали в шкуры диких зверей и травили охотничьими собаками, которые разрывали их живыми на части.
Римский историк Тацит пишет об этом так:
Их смерть сопровождалась самими различными издевательствами. Собаки разрывали их, покрытых звериными шкурами, их прибивали гвоздями к крестам или предавали огню, чтобы они служили для ночного освещения, когда угасал дневной свет. Нерон предоставил свои сады для такого зрелища. Он сам готовил зрелище в цирке, переодевшись возничим и смешавшись с толпой или стоя в стороне на колеснице. Так что даже по отношению к преступникам; заслуживающим крайнего и показательного наказания, пробудилось чувство сострадания; ибо христиан уничтожали вовсе не ради общественного блага, как это могло показаться, а чтобы утолить жестокость одного человека («Анналы» 15,44).
Этот же ужасные рассказ приведен еще у одного христианского историка — Сульиция Севера в его «Хронике»:
Тем временем — а число христиан очень выросло, — случилось так, что Рим был уничтожен пожаром. Нерон находился в то время в Антии. Но общее мнение возложило ненависть за пожар на императора, а все считали, что он таким образом жаждала стяжать себе славу строительством новой столицы. Нерон, как он ни пытался, не мог уйти от обвинении в том, что пожар устроен по его распоряжению. И он обратил обвинения против христиан, и потому самые страшные пытки обрушились на невинных. Были изобретены новые виды смерти: так люди, зашитые в звериные шкуры, погибали, пожираемые собаками, иные были распинаемы на кресте или убиваемы огнем; многих же использовали вот для какой цели: когда день подходил к закату, они должны были погибать, служа для освещения ночью. Таким образом по отношению к христианам была проявлена дикая жестокость, впоследствии их религия была запрещена законами, и в дальнейшем христианство постоянно объявлялось вне закона.
Эти гонения, правда, сперва ограничивались Римом, но они открыли путь к гонениям в других местах. Английский богослов Моффат пишет так:
Когда нероновская волна прошла по Риму, брызги ее упали на далекие провинциальные берега; публичность пыток сделала христиан известным по всей империи, вскоре его услышали жители провинций, и если они когда-либо пожелают сделать нечто подобное с неверными императору христианами, им нужно только получить одобрение проконсула и выбрать в качестве жертвы выдающегося ученика.
С тех пор христианам всегда грозила опасность. Толпы в римских городах знали о том, что произошло в Риме; кроме того постоянно циркулировали клеветнические истории о христианах. Были времена, когда толпа жаждала крови и многие правители потакали ее кровожадным вкусам. Христианам грозил не римский суд, а самосуд.
Опасность была постоянной; годы могли пройти спокойно, но вдруг какая-то искра вызывала взрыв и с ним ужас. Вот в такое время и было написано Первое послание Петра и перед лицом этих событий Петр призывает людей надеяться, мужаться и жить той прекрасной христианской жизнью, которая одна может показать всю лживость распространяемой против них клеветы, лежащей в основе направленных против христиан законов. Первое послание Петра было написано не против какой-то богословской ереси, а для того, чтобы пред лицом опасностей вдохнуть мужество в сердца верующих.
Сомнения
Мы в полной мере изложили аргументы в пользу того, что Петр действительно является автором послания, носящего его имя. Но, как мы уже говорили, довольно многие хорошие ученые считали, что это произведение не может принадлежать ему. Хотя мы не разделяем этих сомнений, ради справедливости, мы излагаем ниже эту точку зрения в том виде, как она изложена в главе о Первом послании Петра в книге Б. Г. Стритера «Молодая Церковь».
Странное молчание
Бигг пишет: «Ни одна книга в Новом Завете не засвидетельствована раньше, лучше и основательнее, чем Первое послание Петра». Евсевий — великий ученый и историк Церкви, живший в четвертом столетии, — приводит Первое послание Петра среди книг, признанных всеми в ранней Церкви как часть Священного Писания (Евсевий: «История Церкви» 3,25.2). Но здесь кое-что нужно отметить.
а) Для подтверждения того, что Первое послание Петра было признано всеми, Евсевий приводит цитаты из древних авторов, чего он никогда не делает, говоря о Евангелиях и посланиях Павла. Уже сам этот факт, что по отношению к Первому посланию Петра Евсевий был вынужден привести эти свидетельства, указывает на то, что он чувствовал необходимость обосновать свои высказывания, в то время как по отношению к другим книгам Нового Завета такой необходимости не существовало. Были ли у самого Евсевия какие-то сомнения? Или были такие люди, которых нужно было убедить? Может быть, всеобщее признание Первого послания Петра не было столь единодушным?
б) В книге «Канон Нового Завета» Уэсткотт подчеркнул, что хотя в ранней Церкви никто не оспаривал права Первого послания Петра на место в Новом Завете, но цитирует его лишь немногие отцы Церкви, и что еще более удивительно, лишь вовсе немногие отцы ранней Церкви на западе и в Риме. Так например, Тертуллиан цитировал Священное Писание очень часто. У него есть 7258 цитат из Нового Завета и из них лишь две из Первого послания Петра. Но, если это послание написал Петр, да еще в Риме, можно было бы ожидать, что оно было хорошо известно в западной церкви.
в) Древнейшим из известных официальных списков книг Нового Завета является Мураториев канон, получивший свое название от имени открывшего его кардинала Муратори. Это официальный список книг Нового Завета, принятых Церковью в Риме около 170 года. И вот, как это не странно, в нем вовсе нет Первого послания Петра. Могут утверждать, что Мураториев канон, в том виде как он дошел до нас, испорчен, и что первоначально в нем могло быть указание на Первое послание Петра. Но такой довод в значительной степени опровергает следующее соображение.
г) Первое послание Петра до 373 г. отсутствовало и в Новом Завете сирийской церкви. Оно вошла туда лишь после создания около 400 г. сирийской версии Нового Завета, известной под названием Пешито. Нам известно, что Церкви, говорившей на сирийском языке, книги Нового Завета принес из Рима Тациан, когда он в 172 г отправился в Сирию и основал церковь в Едессе. Поэтому могут утверждать, что Мураториев канон, в том виде как он дошел до нас, правилен и что до 170 г. Первое послание Петра не входило в Новый Завет римской церкви. А ведь это удивительно, если его написал Петр, да еще в Риме.
Если собрать все эти факты, складывается впечатление, что в связи с Первым посланием Петра имели место какие-то странные умалчивания и что оно не так прочно засвидетельствовано, как это полагали раньше
Первое послание Петра и послание к Ефесянам
Кроме того, существует определенная связь между Первым посланием Петра и Посланием к Ефесянам. Между ними существует много близких параллелей в мыслях и в их выражении, для демонстрации чего мы выбрали несколько примеров.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых» (1 Пет 1,3)
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф 1,3)
Посему (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа (1 Пет 1,13)
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности (Еф 6,14)
(Иисуса Христа) предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас (1 Пет 1,20)
Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира (Еф 1,4)
(Иисуса Христа), Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы (1 Пет 3,22)
(Он) воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы (Еф 1,20-21)
Кроме того, следует отметить большое сходство в наставлениях рабам, мужьям и женам в обоих посланиях.
Высказывалось предположение, что в Первом послании Петра цитируется Послание к Ефесянам Хотя Послание к Ефесянам и было написано в 64 г, но собраны и изданы послания Павла были лишь около 90 года. Если Петр тоже писал в 64 г., как мог он знать Послание к Ефесянам?
На это можно дать несколько ответов.
а) Наставления рабам, мужьям и женам являлись обычного нравственного наставления всем новообращенным во всех христианских церквах. Петр вовсе не заимствовал их Павла, оба они черпали из общего источника.
б) Все приведенные сходные места могут вполне объясняться тем, что в раннехристианской Церкви определенные фразы и мысли носили всеобщий характер. Так, например, фраза «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» была частью благочестивого языка в ранней Церкви, который знали и которым пользовались и Петр и Павел, не думая вовсе о заимствовании. в) Даже если и имело место заимствование, это еще не доказывает, что заимствовано было в Первое послание Петра из Послания к Ефесянам. Вполне возможно, что заимствование шло наоборот, потому что Первое послание Петра написано намного проще, чем Послание к Ефесянам.
г) И, наконец, Петр возможно и позаимствовал из Послания к Ефесянам, если оба апостола находились в Риме в одно и то же время и Петр видел Послание Павла к Ефесянам до его отправки в Малую Азию и обсуждал с Павлом изложенные в нем идеи.
Утверждение о том, что в нем цитируется Послание к Ефесянам, кажется нам необоснованным, неопределенным, и даже ошибочным.
Сопастырь ваш
Возражение высказывалось и в связи с тем, что Петр, мол, не мог написать такое предложение: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь» (1Пет. 5, 1). Утверждали, что Петр не мог назвать себя пастырем. Он был апостолом и у него были совершенно иные, нежели у пастырей, функции. Апостол отличался тем, что его деятельность и власть не ограничивались какой-то одной церковной общиной; его писания и указания расходились по всей Церкви, а пастырь был руководителем отдельной церковной общины.
И это совершенно справедливо. Но надо помнить, что среди иудеев наибольшим почетом пользовались именно пастыри. Пастыри пользовались уважением всего общества и от него общество ждало решающей помощи в решении своих проблем и справедливости при решении своих споров. Петр, как иудей, вовсе не посчитал бы неуместным назваться пастырем; называя же себя так, он по-видимому, стремился избежать необходимости заявлять свои права и власть, неразрывно связанные с титулом апостола, и любезно и учтиво ставил себя на одну доску с людьми, которым он писал.
Свидетель страданий Христовых
Возражения высказываются и в связи с тем, что Петр не мог называть себя свидетелем страданий Христовых, потому что сразу после ареста Христа в Гефсиманском саду все Его ученики оставили Его и бежали (Мат. 26,56). За исключением Его любимого ученика никто из них не был свидетелем Распятия (Иоан. 19,26). Петр мог назвать себя свидетелем Воскресения и, действительно, это входило в звание апостола (Деян. 1,22), а свидетелем Распятия он не был. Петр говорит не о том, что он был свидетелем Распятия, а лишь о том, что он был свидетелем страданий Христа. Петр действительно видел страдания Христа, причиняемые Ему непониманием людей, он видел Его в мучительные минуты Тайной Вечери, в душевных муках в Гефсиманском саду, он видел издевательства над Ним во дворе первосвященника (Мар. 14,65), муку во взгляде Иисуса когда Он взглянул на Петра (Лук. 22,61). Лишь равнодушие и мелочные критики могут оспаривать право Петра заявить, что он был свидетелем страданий Христовых.
Гонения за имя Христово
Главный довод в пользу позднего написания Первого послания Петра видят в том, что в нем упоминается о гонениях. Утверждают, что из этого послания вытекает, что уже в то время было преступлением быть христианином, и что христиан судили уже только за факт их веры, без всякого правонарушения с их стороны. В Первом послании Петра говорится, что на христиан злословят за имя Христово (4,14) и что им приходится страдать за то, что они христиане(4,16). Утверждают также, что такого размаха гонения достигли лишь после 100 г., а до того времени гонения, мол, обосновывались лишь обвинением в злодеяниях, как во время Нерона.
Вне всякого сомнения, здесь имеется в виду закон 112 года. В это время Плиний Младший был проконсулом в Вифинии. Он был другом императора Траяна и имел обыкновение сообщать ему все свои проблемы в ожидании помощи для их разрешения. Так, он написал императору о своем отношении к христианам. Плиний Младший был вполне уверен в том, что христиане были законопослушными гражданами и не совершали никаких преступлений. Он писал:
У них есть обычай собираться вместе в определенный день и до рассвета петь в разных стихах гимн Христу, как Богу, они обещают друг другу не с преступными целями, а для того, чтобы избежать воровства, грабежа и прелюбодеяния, никогда не нарушать своего слова и не отказывать от уплаты по залогам если этого потребуют.
Плиния Младшего все это устраивало, ибо, когда к нему приводили христиан, он задавал им только один вопрос:
Я спросил их, христиане ли они Тех, которые признались, я спросил еще раз, угрожая им наказанием Тех, которые упорствовали на своем, я приказал увести и казнить.
Их единственным преступлением было то, что они были христианами.
Траян ответил на это, что Плиний Младший поступал правильно, и что всякий, кто отступится от христианства и докажет это принесением жертвы богам, должен быть сразу же освобожден. Из писем Плиния Младшего ясно, что против христиан было много доносов, а император Траян даже постановил, чтобы анонимные доносы не принимались и ходу им не давали (Плиний Младший: «Письма» 96 и 97).
Утверждают, что Первое послание Петра предполагает наличие положения вещей, каким оно было в эпоху Траяна.
Этот вопрос можно решить, проследив картину нарастания гонений и установив причины, которые побуждали к этому римскую империю.
1. По римскому обычаю религии делились на две категории: религионес лиците — разрешенные, легальные религии, признанные государством, которые мог отправлять каждый человек, и на религионес иллиците — запрещенные государством, отправление которых автоматически ставило человека вне закона, делало его преступником и объектом гонений. Надо, однако, отметить, что римляне были очень терпимы в вопросах религии и разрешали всякую религию, которая не разрушала общественную нравственность и порядок.
2. Иудаизм был религио лиците — разрешенной религией и в первое время римляне, вполне естественно, не делали никакого различия между иудаизмом и христианством: христианство было для них лишь одной из сект иудаизма и любую враждебность между ними, коль скоро она не затрагивала римское правительство, считали внутренним делом иудеев. Именно поэтому в самые первые дни существования христианства ему не угрожали никакие организованные преследования: оно пользовалось на территории всей римской империи той же свободой, которая была предоставлена иудаизму, потому что на него тоже смотрели как на религио лиците.
3. Действия императора Нерона изменили положение в корне. Римское правительство осознало, что иудаизм и христианство — это разные религии. Правда, император Нерон первоначально преследовал христиан не за то, что они были христианами, аза то, что они подожгли Рим, но тем не менее, остается фактом, что в это время римское правительство уяснило, что христианство — это самостоятельная религия.
4. Из этого немедленно и неизбежно вытекало, что христианство является запрещенной религией и, что каждый христианин стоит вне закона. Из трудов римского историка Светония Транквилла, который приводит своего рода список изданных Нероном законов, видно, что все происходило именно так.
Во время его правления были запрещены и строго наказывались многие злоупотребления, было издано немало законов, ограничена была роскошь, всенародные гуляния были заменены раздачей пищи, в харчевнях запрещено было продавать вареную пищу, кроме овощей и зелени -раньше там торговали любыми кушаньями Наказаны были христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия, запрещены забавы колесничих возниц, которые, ссылаясь на долгое стояние, считали, что имеют право нестись во весь опор и для потехи обманывали и грабили прохожих Изгнаны были из города актеры пантомимы и их поклонники.
Мы привели этот отрывок целиком, потому что он доказывает, что во времена императора Нерона наказание христиан стало обычным делом полиции, а ко времени императора Траяна преступлением было уже просто быть христианином. Во все времена после императора Нерона христианина могли подвергать пыткам и убить уже просто за его веру.
Это, однако, не значит, что гонения были последовательными и постоянными, но это все же значит, что христианин мог быть казнен в любое время, если это было в интересах полиции. В одних местах христианин мог прожить всю жизнь спокойно, в другом же месте вспышки преследований и гонений могли повторяться каждые несколько месяцев; все зависело, в значительной степени, от двух причин: во-первых, от самого местного правителя, который либо мог оставить христиан в покое, либо пустить в дело против них закон; во-вторых, от доносчиков, даже если правитель и не жаждал начать преследование христиан. Когда к нему поступили доносы на христиан, он должен был действовать. А было и так, что когда толпа жаждала крови, и начиналась резня христиан для украшения римского праздника.
Положение христиан в отношении к римскому праву можно попытаться показать на простом современном примере. Есть целый ряд действий, которые сами по себе являются противозаконными. Возьмем, к примеру, такую мелочь, как неправильная остановка автомобиля, которая в течение долгого времени может оставаться безнаказанной, но если сотрудники автоинспекции решат провести неделю контроля выполнения правил дорожного движения, или же такое нарушение приведет к тяжелым последствиям, или же кто-то в письменной форме пожалуется на факты такого нарушения, закон придет в действие и будут накладываться надлежащие штрафы и взыскания. В таком же положении находились христиане во всей римской империи — все они были нарушителями закона. Может быть кое-где против них и не предпринимали никаких мер, но над ними постоянно висел своего рода Дамоклов меч. Никто не мог знать, когда поступит какой-нибудь донос на них; никто не мог знать, когда наместник или правитель предпримет соответствующие действия по такому доносу; никто не знал, когда его ждет смерть. И такое положение не прекращалось со времени гонений Нерона.
Теперь посмотрим на положение, получившее отражение в первом послании Петра. Читатели и адресаты послания пострадали от различных испытаний (1,6); их вера может подвергаться, подобно металлу, испытанию огнем (1,7). Совершенно очевидно, что они только что прошли через кампанию злословия, в ходе которой против них выдвигались невежественные и необоснованные обвинения (2,12; 2,15; 3,16; 4,4). Они находились в центре направленной против них волны преследований (4,12.14.16; 5,9). Им еще предстоят страдания и они не должны удивляться этому (4,12). Но такое страдание должно придать им чувство блаженства, ибо они страдают за правду (3,14.17), и сознание, что они участвуют в страданиях Христовых (4,13). Нет необходимости относить такое положение только к эпохе императора Траяна: в таком положении христиане находились повседневно во всех частях римской империи с того самого момента, как их истинное положение было установлено в ходе гонений Нерона. Размах гонений, получивших отражение в Первом послании Петра, вовсе не определяется эпохой императора Траяна и, следовательно, написание послания нет оснований относить именно к ней.
Чтите Царя
Мы рассмотрим еще некоторые доводы людей, которые не могут согласиться с тем, что Петр является автором послания. Они утверждают, что в положении, господствовавшем в эпоху императора Нерона, Петр не мог написать такие строки: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро…, Бога бойтесь, царя чтите» (1Пет. 2,13-17). Но, дело в том, что именно точно такая же точка зрения выражена и в Рим. 13,17. Весь Новый Завет, за исключением Откровения, в котором Рим проклинается, учит, что христиане должны быть верноподданными гражданами и своим отличным поведением доказывать ложность выдвигаемых против них обвинений (1Пет. 2,15). Даже в эпоху гонений христианин признавал свой долг быть хорошим гражданином, и в качестве единственной защиты от гонений он мог своей высокой гражданственностью доказать, что не заслуживает такого отношения к себе.
Проповедь и послание
Какова точка зрения тех, которые не могут верить, что Петр был автором послания?
Во-первых, высказываются предположения, что вступительное приветствие (1,1.2) и заключительные приветствия (5,12-14) являются позднейшими дополнениями, а не частями первоначального послания.
Высказывается даже предположение, что Первое послание Петра в том виде, как мы имеем его сегодня, было составлено из двух отдельных и совершенно отличных друг от друга посланий. В 4,11 помещено славословие, которое обычно относится в конец послания, и посему высказывается предположение, что 1,3-4,11 — это первая вошедшая в общее послание часть. Предполагают, что эта часть Первого послания Петра — проповедь, которую произносили во время процедур крещения. Там действительно говорится о крещении, которое спасет нас (3,21), а совет рабам, женам и мужьям (2,18 — 3, 7) был бы очень уместным там, где люди приобщаются к христианской Церкви непосредственно от язычества и вступают в новую христианскую жизнь.
Высказывается далее предположение, что вторая часть послания — 4,12 — 5,11, представляет собой главную часть отдельного пастырского послания, написанного для укрепления и утешения паствы в эпоху гонений (4,12-19). В такое время пастыри играли очень важную роль, от них зависела прочность Церкви. Автор пастырского послания высказывает опасение, что в души паствы вкрадывается корысть и высокомерие (5,1-3) и призывает свою паству преданно исполнять свой долг (5,4). По мнению этих людей, Первое послание Петра составлено из двух совершенно самостоятельных частей -из проповеди при церемонии крещения и пастырского послания эпохи гонения на христиан, к которым Петр будто бы не имел никакого послания.
Малая Азия, а не Рим
Если Первое послание Петра представляет собой в одной части проповедь для процедуры крещения, а в другой — пастырское послание эпохи гонений на христиан, то встает вопрос о месте его написания. Если послание написал не Петр, то нет необходимости связывать его с Римом, почему римская церковь не знала и не исследовала его.
Давайте сопоставим некоторые факты.
а) Понт, Галатия, Каппадокия, Асия и Вифиния (1,1) находятся в Малой Азии и расположены вокруг Синопа.
б) Первым цитирует значительную часть Первого послания Петра Поликарп, епископ Смирнский, а Смирна находится в Малой Азии.
в) Некоторые фразы в Первом послании Петра сразу вызывают в памяти аналогичные фразы в других книгах Нового Завета. В 1Пет. 5,13 Церковь названа «избранной», и в 2 Иоан. 13, Церковь описана как «сестра избранна». А в 1Пет. 1,8 так сказано об Иисусе: «Которого не видев любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною». А это, совершенно естественно, обращает наши мысли к словам Иисуса, сказанные Фоме в Евангелии от Иоанна: «Блаженны не видевшие и уверовавшие»
(Иоан. 20,29). Автор Первого послания Петра призывает пастырей пасти стадо Божие (1Пет. 5,2). А это обращает наши мысли к словам Иисуса, сказанные Петру: «паси овец Моих» (Иоан. 21,15-17) и к прощальному наставлению, данному Павлом пресвитерам из Ефеса пасти Церковь Господа и Бога, которой Дух Святой поставил их блюстителями (Деян. 20,28). Другими словами, Первое послание Петра вызывает ассоциации с Евангелием от Иоанна, послания Иоанна и Послание к Ефесянам Павла. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна были написаны в Ефесе, который находится в Малой Азии.
Складывается впечатление, что Первое послание Петра связано в первую очередь с Малой Азии.
Причина написания первого послания Петра
Если предположить, что Первое послание Петра было написано в Малой Азии, то какова могла быть причина его написания?
Оно было написано в эпоху гонений на христиан. Из писем Плиния Младшего мы узнаем, что в 112г. в Вифании имели место сильные гонения, а Вифиния приведена в списке провинций, в которые было адресовано послание. Можно предположить, что послание было написано для того, чтобы вдохнуть мужество в сердца христиан. Вполне может быть, что в то время в Малой Азии кто-то натолкнулся на эти два текста и послал их от имени Петра. На это никто не посмотрел бы как на подделку. Как в иудейской, так и в греческой практике существовал обычай приписывать книги великим авторам.
Автор первого послания Петра
Если Первое послание Петра написано не самим Петром, то можно ли установить, кто был его автором? Давайте выполним некоторые из его важнейших особенностей.
Выше мы предположили, что оно было написано в Малой Азии. Как видно из самого послания, его автор должен был быть пастырем и свидетелем страданий Христовых (1Пет. 5,1). Был ли в Малой Азии человек, отвечавший этим требованиям? Папиас, бывший епископом Иераполя в Фригии около 170 г. и проводивший свою жизнь в собирании информации о ранних днях христианской Церкви, так рассказывает о методах своих розысков и источниках:
Я не буду колебаться и запишу для тебя вместе с моими замечаниями все, что я узнал со страданием и запомнил со страданием от пастырей и пресвитеров, удостоверившись в достоверности…, а также если кто встречался с людьми, которые доподлинно были последователями пастырей или пресвитеров, я расспрашивал о высказываниях пастырей… что говорил Андрей и Петр, или Филипп, или Фома, или Иаков или Иоанн или Матфей, или кто-нибудь еще из учеников Господа, а также что говорят Аристиан или пресвитер Иоанн, ученики Господа…Ибо я полагаю, что все узнанное из книг не принесет мне столько пользы, как высказывание живого голоса, который еще был с нами.
Здесь говорится о пастыре по имени Аристиан, который был учеником Господа и, следовательно, свидетелем страданий Господа. Не связывает ли это с Первым посланием Петра?
Аристиан Смирнский
В «Апостолическом установлении» мы встречаем имя одного из первых епископов Смирны — Аристона, — то же самое, что и Аристиан. Ну, а кто первым цитирует Первое послание Петра? Не кто иной как Поликарп, позднейший епископ Смирнский. А ведь это самое естественное, что Поликарп цитирует, можно сказать, благочестивое классическое произведение своей родной церкви.
Обратимся к посланиям семи церквам в Откровении Иоанна и прочтем послание к церкви в Смирне:
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Отк. 2,10).
Может быть, это и есть то самое гонение, которое получило отражение в Первом послании Петра? И, может быть, именно это гонение явилось причиной написания Аристианом, епископом смирнским, пастырского послания, которое впоследствии стало частью Первого послания Петра?
Так считает Б. Г. Стритер. Он полагает, что Первое послание Петра было составлено из проповеди и пастырского послания, написанного Аристианом, епископом Смирнским. Первоначально пастырское послание, по мнению Стритера, было написано для утешения и воодушевления христиан в Смирне, когда в 90 г. церкви угрожали упомянутые в Откровении гонения. Это сочинение Аристиана стало классическим, благочестивым и любимым произведением в Смирнской церкви. Через двадцать с лишним лет в Вифинии вспыхнули и распространились на всю северную часть Малой Азии жестокие гонения. Тут кто-то вспомнил послание Аристиана и его проповедь, подумал, что это как раз то, что нужно Церкви в эпоху тогдашних испытаний, и разослал их под именем Петра, великого апостола.
Апостольское послание
Мы в полной мере изложили две точки зрения на авторство, датировку и происхождение Первого послания Петра. Никто не оспаривает оригинальность теории Б. Г. Стритера, а также аргументов сторонников более поздней датировки, с которыми нужно считаться. Мы, однако, считаем, что нет оснований сомневаться в том, что послание было написано самим Петром вскоре после большого пожара Рима и гонений на христиан, для воодушевления христиан Малой Азии стоять стойко в момент, когда надвигающаяся волна преследований грозила захлестнуть их и унести их веру.
«Первое послание святого апостола Петра - наиболее сжатое изложение христианской веры и того образа жизни, к которому она призывает. Это образец „пастырского послания"». Такими словами начинает свой прекрасный комментарий к Первому посланию Петра Сесла Спик
«Пастырское» - именно так можно охарактеризовать это послание Петра. Апостол стремится укрепить и утешить христианские церкви в Малой Азии, предчувствуя начало бурной эпохи гонений. Эти бури свирепствуют и сегодня: в Индии, где толпа индусов разрушает христианскую церковь, с огромным трудом построенную в беднейших кварталах Бомбея; в большинстве коммунистических стран, где человек, исповедующий Христа, лишается возможности получить образование или устроиться на работу и чаще всего отправляется в тюрьму. Многим англоговорящим странам трудно представить себе что–либо подобное. Возможно, мы просто не замечаем знаков времени. В действительности страдания не минуют ни одного христианина, и каждый верующий человек хоть в небольшой степени потерпит лишения за Христа. Петр обращается ко всем нам, когда говорит о страданиях в настоящем и о славе в будущем.
Пастырское послание Петра поддерживает нас, наставляя. Сокрытые внутри каждого человека потребности формируют его глубочайшие убеждения. На что мы надеемся? Петр говорит об Иисусе Христе, нашей верной надежде сейчас и всегда. На протяжении всего послания апостол призывает нас помнить о том, что Бог уже сделал, и уповать на то, что Он еще совершит для нас через Иисуса Христа. Петр говорит не столько о поступках и словах Иисуса, находившегося вместе с ним в лодке, сколько о значении Его жизни, смерти, воскресения и вознесения. Свидетельство Петра о жизни Иисуса нашло свое отражение в Евангелии от Марка
В своем послании он показывает, какое значение имеет для нас история жизни Того, Кто призывает взять свой крест и следовать за Ним.
1. Для кого было написано послание?
Понт, Галатия, Каппадокия, Асия и Вифиния - провинции или области, где жили христиане, которым адресовано послание. Если эти названия используются для обозначения римских провинций, то в целом указанная территория охватывает всю Малую Азию к северу от горной цепи Тавр, тянущейся вдоль южного побережья. Она включила бы в себя большую часть современной Турции. Возможно, однако, что апостол говорит об определенных областях, а не об официальных провинциях
Если это так, то указанная территория сужается, поскольку области Галатия и Асия были значительно меньше провинций, носивших те же названия. Возможное значение такого сужения заключается в том, что за его пределами остаются некоторые местности, где вел активную миссионерскую деятельность Павел (например: Антиохия Писидийская, Икония, Листра, Дервия). Святым Духом Павел был удержан от посещения Вифинии - возможно, эта область предназначалась кому–то другому. Историк ранней Церкви Евсевий высказывает предположение, что сам Петр мог принимать непосредственное участие в евангелизации тех мест, которые он называет (Деян. 16:7)
Очевидно, Петр имел основания обращаться к христианам именно этих, а не каких–либо иных провинций или областей (он не упоминает Ликии, Памфилии или Киликии - провинций, лежащих к югу от гор Тавра). Поэтому предположение о том, что он имеет в виду те местности в Малой Азии, в которых большую роль сыграло его собственное служение, а не миссионерская деятельность Павла, кажется вполне убедительным.
Понт и Вифиния, располагающиеся на берегу Черного моря, названы раздельно, несмотря на то что они были объединены в одну римскую провинцию. Высказывалось предположение, что Петр начинает с Понта и заканчивает Вифинией, поскольку таким образом представляет себе путь, который должен будет проделать Сила или кто–то другой, кому будет поручено отвезти письмо: посланец мог бы начать свою миссию в Амисе, самой дальней восточной части Понта на Черном море, и завершить ее в Халкедоне в Вифинии. Оттуда он переправился бы в Византию, где была возможность сесть на корабль, идущий в Рим
Географические местности, к жителям которых обращается Петр, представляли собой «фантастический конгломерат территорий»: прибрежные районы, горные цепи, плато, озера и речные системы. Население было еще более пестрым. Оно состояло из людей с «разным происхождением, этническими корнями, языками, традициями, верованиями и политическим развитием»
Если распространение христианской веры в этих регионах проходило по схеме миссионерской политики Павла, мы можем предположить, что первые церкви были основаны в городских центрах и что верующие евреи (наряду с последователями иудаизма из язычников [«боящиеся Бога»]) образовывали первоначальное ядро многочисленных домашних церквей и общин. Значительную часть населения, однако, составляли крестьяне, центр Малой Азии был усеян множеством поселений различных племен, куда практически не доходила римская культура
Хотя мы и не знаем в точности, какие «массы людей» или слои общества фигурировали среди христиан Малой Азии, нас поражает то ощущение единства, которое приносило с собой Евангелие. Столь же разные, как и их окружение, эти люди стали новым народом Божьим, братством, избранным народом, рассеянным по миру (1 Пет. 1:1; 2:9,10,17; 5:9).
2. Кем написано это послание?
Приветствие в начале послания утверждает авторство апостола Петра - момент, который не может быть оставлен без внимания. Трудно согласиться с предположением, что Церковь восприняла это как «безобидный литературный прием»
Большое количество других книг, будто бы написанных Петром, были отвергнуты как не имеющие отношения к апостолу. Поскольку за апостолами признавали полученную от Христа высокую власть основывать церкви, недостойная претензия на это звание не могла быть воспринята с легкостью. Стоит только вспомнить, как защищал Павел свое апостольское положение, - и мы увидим особое значение, которое имело это положение в глазах Церкви.
Достаточно ранние и надежные свидетельства об этом послании содержатся в различных произведениях
Самое раннее упоминание о нем мы найдем во 2 Пет. 3:1. Климент Римский (конец I века) цитирует Первое послание Петра, хотя и не указывает, откуда взята цитата. Цитаты продолжают появляться и у других раннехристианских авторов. Ириней (II век) совершенно определенно относит приводимые им слова к этому посланию.
Те, кто придерживается мнения, что Петр не был автором этого послания, приводят четыре основных доказательства своей точки зрения
Во–первых, указывается, что греческий язык послания слишком безупречен для бывшего галилейского рыбака (фраза Папия, что Иоанн–Марк был «переводчиком» Петра, приводится некоторыми исследователями как свидетельство того, что Петр нуждался в переводчике, поскольку не владел греческим в совершенстве)
Во–вторых, настойчиво утверждается: гонения, о которых говорится в послании, начались лишь после смерти Петра. В–третьих, в послании видят слишком много характерных черт писем Павла, в связи с чем Петру отказывают в авторстве. В–четвертых, многие из тех, кто признает существенное отличие от произведений Павла, настаивают на том, что Первое послание Петра несет в себе традиционные, элементы учения ранней Церкви и не содержит ничего, что доказывало бы его принадлежность перу одного из первых учеников Иисуса.
Последнее возражение можно опровергнуть, рассмотрев цель послания. Петр уже свидетельствовал о словах и деяниях Иисуса. К работе Иоанна–Марка по «переводу» проповедей апостола относится и его запись свидетельства Петра в Евангелии от Марка. Послание подразумевает знание слушателями истории жизни Христа, и Петр сосредотачивает свои силы на том, чтобы дать апостольское толкование Евангелия. Такое апостольское наставление находим мы и в письмах Павла. Указание на то, что Первое послание Петра имеет слишком много схожих черт с посланиями Павла, может быть рассмотрено в свете того соображения, что Павел, также как и Петр, следовал в своих наставлениях апостольскому «образцу здравого учения» (2 Тим. 1:13; ср.: 1 Пет. 2:2 и 1 Кор. 15:1-11)
Действительно, традиционная дата смерти Петра во время правления императора Нерона предшествует основным периодам римских гонений. Однако в послании нет ничего, что указывало бы на начало официальных или крупных преследований. Скорее в нем нашло отражение время отдельных притеснений и локальных гонений, время, когда христиан необходимо было укрепить и подготовить к гораздо большим страданиям за Христа в будущем
3. В какой форме написано послание?
Послание Петра, несмотря на свою краткость, очень разнообразно и по форме, и по содержанию. В нем встречается большое количество ссылок и аллюзий из Ветхого Завета
Например, Псалом 33 цитируется дважды (2:3; 3:10-12), и его тема - надежда для тех, кто находится в насильственной ссылке, - проходит через все послание
И хотя мы не встречаем открытого цитирования слов Иисуса, в Первом послании Петра, как и в Послании Иакова, постоянно слышатся высказывания Учителя
Встречаются предположения, что Первое послание Петра - это совсем не послание, а проповедь или катехизическое наставление, которое сопровождало таинство крещения
Его трактовали даже как литургию во время обряда крещения
. (Считается, что слова обряда начинаются с 2:21.) Тем не менее, Уэйн Грудем указывает на то обстоятельство, что мысль о крещении определенно высказывается в послании только в стихе 3:21, и добавляет, что «само по себе упоминание о начале христианского образа жизни еще не содержит указания на крещение»
Другая форма, элементы которой обнаруживают в послании, - форма раннехристианских гимнов или исповеданий веры
Такую возможность нельзя исключить совсем, однако ритмическое оформление, на которое указывают как на характерную черту гимна или символа веры, может быть просто ораторским приемом, используемым во время проповедования или обучения.
Самым точным определением формы Первого послания Петра остается краткий вывод в конце самого послания: «Сие кратко написал я вам… чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите» (или «…в которой и стойте», 5:126). Послание наполнено утешением и свидетельством, сходным с апостольским учением. Можно предположить, что Петр уже не в первый раз учит этим вопросам. Письмо написано свободным языком, Петр не собирает по кусочкам информацию, полученную от других. Он говорит с глубоким пониманием и основывается на своем опыте апостола Иисуса Христа.
4. Когда и где оно было написано?
Под «Вавилоном», из которого Петр шлет свои приветствия (5:13), едва ли понимается разрушенный и оставленный людьми город в Месопотамии. В Книге Откровение «Вавилоном» назван Рим (16:19; 17:5; 18:2), и нет ничего удивительного, что Петр также употребляет это название в символическом смысле. Он думает о христианской Церкви как о Божьем народе в изгнании и рассеянии (1:1,17; 2:9–11). Для ветхозаветных пророков Вавилон был столицей мировой империи и городом изгнания Израиля, где израильтяне находились как пришельцы и чужестранцы. Использование Петром названия «Вавилон» напоминает его слушателям, что он также разделяет их участь изгнанников.
Кроме того, первые отцы Церкви были уверены, что Петр и Павел приняли мученическую смерть в Риме. Историк ранней Церкви Евсевий цитирует Папия и Оригена для подтверждения этой мысли
(Папий, епископ города Иераполя, умер в 130 г.).
Иоанн–Марк, о котором говорит Петр (5:13), также упоминается Павлом, когда тот пишет из Рима (2 Тим. 4:11; Флм. 23).
Поскольку Петр упоминает Марка, но ничего не говорит о Павле, есть основания предположить, что во время написания послания Павла не было в Риме. Интересно, что и Павел не называет Петра в своих письмах, даже когда говорит о верных сотрудниках «из обрезанных» (Флп. 2:20,21; Кол. 4:10,11). Согласно традиции, Петр попал в Рим только в конце своей жизни
Таким образом, очевидно, Петр пишет из Рима уже после того, как Павел покинул его, освободившись из своего первого заключения в 62 году
Представляется маловероятным, что жестокие преследования Нерона уже обрушились на римских христиан. Можно предположить, что Петр как–то указал бы на это обстоятельство, призывая к покорности по отношению к царю (2:13-17). Наиболее вероятной датой написания послания можно назвать 63 год, когда Павел уже покинул Рим, но гонения Нерона еще не начались.
1:1,2
1. Апостол иудеев благословляет истинный народ Божий
1. Он приветствует их благословением
В Соединенных Штатах и Великобритании производство поздравительных открыток достигло грандиозных размеров. Туманные фотографии влюбленных, портреты маленьких беспризорников, гротескные карикатуры - всем этим завалены длинные выставочные стойки. Но при всем их многообразии, открытки сохранили традиционные формы выражения приветствия. Количество способов сказать «Здравствуйте» или «С днем рождения» весьма ограниченно.
Но христиане, и особенно христианские апостолы, могут видеть в приветствии нечто большее, чем простую формальность. Первые христиане использовали традиционную формулу: «Радоваться!» (Иак. 1:1; Деян. 15:23; ср.: Деян. 23:26)
Но Петр, Павел и Иоанн обращаются к Церкви с приветствиями, которые превращаются в благословения: пожелание радоваться становится в устах апостолов призывом к благодати
Ветхозаветную формулу такого благословения произносит Давид: «Да воздаст вам Господь милостью и истиною» (2 Цар. 2:6; 15:20). Новый Завет усиливает значение милости и благодати Божьей. Благодать «Открывает в Иисусе Христе действенную любовь Божью по отношению к грешникам»
Что превращает приветствие в благословение? Петр дает ответ на этот вопрос в словах, предваряющих его благословение. Он говорит о работе Духа Святого. Когда служитель Слова Божьего произносит благословение в конце богослужения, только действие Духа Святого придает силу его словам.
Благодать -
это дар, и ее даритель - Бог. В наших словах благословения нет ничего магического, они не передают благодать благодаря собственной силе или благодаря тому, что мы их произносим. Но когда такие слова с верою обращены к народу Божьему, Сам Бог утверждает их. В них скрыто нечто большее, чем простое пожелание, даже больше, чем молитва. Они провозглашают благоволение Бога к верующим в Христа.
В своем обращении наряду с благодатью апостол желает
мира. Благодать
преобразует приветствие греков,
придает новое значение слову
приветствию евреев. Ветхозаветные священники произносили Божье благословение народу: «Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Чис. 6:26). Согрешив, Израиль лишился этого благословения и, понеся наказание, оказался в рабстве. Но пророки указывали, что настанет день, когда Бог избавит Свой народ не только от его гонителей, но и от греха (Мих. 7:14–20). Сам Бог будет их Спасителем: «Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас» (Ис. 26:12; ср.: Ис. 9:16).
Симон Петр, галилейский рыбак, знал Князя мира, о Котором пророчествовал Исайя. В горнице во время Тайной вечери, а затем вновь после воскресения Иисус благословил Своих апостолов и дал им Свой мир (Ин. 14:27; 16:33; 20:19). Речь шла не о политическом мире, который, как предполагалось, принесет Мессия. На всей земле, говорит Иисус, нет ничего, что могло бы даровать мир или лишить его. Мессия даровал его в перспективе креста. Иисус принес мир не вопреки кресту, а через него. В смертных муках Он принял на Себя праведный гнев Божий и установил мир не только между иудеями и язычниками, но также между человеком и Богом.
2. Он приветствует их как истинный Народ Божий
Кратко представив себя, Петр обращается к своим слушателям как к истинному народу Божьему. Они находятся в новом изгнании,
рассеянные
по миру, но
избранные
Богом, освященные
и очищенные
окроплением Кровию
Иисуса Христа.
Постарайтесь почувствовать весь драматизм подобного описания. Петр обращается по преимуществу к язычникам, к тем, кто не принадлежал к избранному Богом народу и следовал «суетной жизни, преданной… (им) от отцов» (1:18). Они вели языческий образ жизни, предаваясь «нечистотам, похотям (мужеложеству, скотоложеству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению» (4:3)·. Петр, как благочестивый иудей, должен был бы относиться к язычникам с презрением и отвращением. Даже став апостолом, он был призван служить прежде всего христианам из иудеев. Он был послан к «обрезанным» (Гал. 2:7,8). И когда Господь в видении велел Петру есть некошерную пищу (Деян. 10:14), потрясение его было велико. Только после видения на крыше, которое заставило Петра по–новому взглянуть на вещи, он оказался готов пойти в дом язычника Корнилия. Там он свидетельствует, что откровение Божье заставило его отказаться от убеждения, что «Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником» (Деян. 10:28).
И это говорил апостол, который пишет к язычникам в Малой Азии (нынешняя Турция), приветствуя их как избранный и святой народ Божий! Что могло вызвать столь кардинальный переворот в этом иудейском до мозга костей рыбаке? Конечно, Христос. Петр пришел к пониманию того, что значит принадлежать к народу Божьему: это значит принадлежать Мессии, Сыну Божьему.
Но самое поразительное, что он называет этих язычников
избранными
Бога–Отца
(1:2). Израиль был избранным народом Божьим. Ему «принадлежат усыновление и слава, и заветы» (Рим. 9:4). Бог «поставил пределы народов по числу сынов Израилевых; ибо часть Господа народ Его» (Втор. 32:8,9). Как же язычники могут быть названы избранными Богом?
Давайте подумаем, как бы ответил на этот вопрос Петр. Он не стал бы отрицать того, что Корнилий и его домашние присоединились к народу Божьему. Они приняли того же Духа Святого, который сошел на верующих иудеев в день Пятидесятницы. Но, возможно, Петр считал язычников гражданами второго сорта. Он мог полагать, что Бог решил присоединить их к избранным лишь впоследствии. Когда множество иудеев потеряло веру, Господь определил некоторых язычников восполнить образовавшуюся брешь
3. Он приветствует их как народ Божий, находящийся в мире
Что нового в утверждении Петра о возможности называть язычников народом Божьим, который избран Отцом, освящен Духом Святым и окроплен кровью нового завета? Чтобы подчеркнуть необычность своего заявления, апостол использует два слова, которые переворачивают весь мир жителей Малой Азии того времени и наш с вами. Он говорит об
нхрассеянии
и называет их
пришельцами,
временными жителями, путешественниками, направляющимися к своей родине.
Эти определения служат ключом ко всему посланию Петра. Апостол пишет путеводитель для христиан–пилигримов. Он напоминает им, что все их надежды связаны с их настоящей родиной. Они призваны оставаться пришельцами и скитальцами, потому что их гражданство на небесах.
Книга Джона Беньяна «Путешествие пилигрима» может послужить классическим отражением темы странничества - следования за Христом. Однако сейчас герой Беньяна, Христианин, имеет больше критиков, нежели последователей. Спеша изо всех сил достичь Небесного Града, Христианин не уделял особенного внимания миру, через который лежал его путь. Он старался говорить слова ободрения своим спутникам, но не попытался проповедовать на Ярмарке Тщеславия и ничего не предпринял для того, чтобы осушить Топь Уныния. В защиту Беньяна следовало бы сказать, что его собственная жизнь была лучше созданного им образа. Однако как же нам понимать странничество христиан? Должен ли христианин бежать от мира, бороться с ним, приспосабливаться к нему, изменять его, или же есть более глубокий смысл в его призвании быть странником?
Конечно, эти вопросы ставятся не впервые. Слушатели послания Петра также задавали их себе. Что означают слова о нашей жизни в рассеянии, как временных поселенцев в чужой земле?
Слово «диаспора» («рассеяние») было традиционным обозначением евреев, разбросанных по миру после изгнания 585 г. до н. э.
Хотя рассеяние иудеев началось с их насильственного переселения ассирийцами и вавилонянами, оно чрезвычайно увеличилось в результате добровольной иммиграции. Язычники, к которым пишет Петр, могли быть знакомы с этим термином в его приложении ко всей массе иудеев, проживающих вне родины. Возможно, что сами они не слишком благожелательно относились к еврейской диаспоре среди них. Антисемитизм был довольно распространен в Римской империи. Но Петр включает в диаспору своих